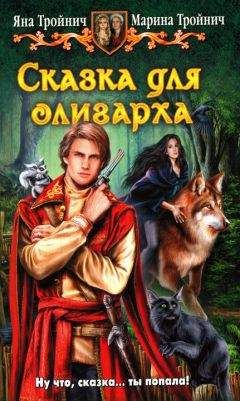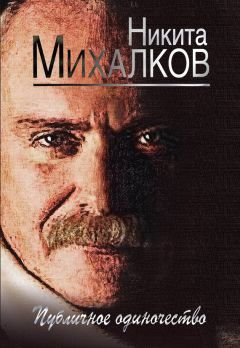Ознакомительная версия.
— Зато теперь все рвутся к нам отдыхать на Белое море, — бросила Извицкая. — Поедешь летом на Соловки, Ливанов?
— На Соловки — хоть с тобой, — отозвался он. — Прости, любимая, хотел сказать, с тобой — хоть на Соловки.
Извицкая хотела ответить чем-то хлестким и остроумным, но протормозила лишнюю секунду, упустила момент, после которого удар уже не считается парированным. Записала себе в личный счет на будущее. За годы более-менее близкого знакомства у нее накопилось к Ливанову немало непроплаченных личных счетов.
Виталик насупился: вмешательство этой богемной дамочки с зелеными глазами, то ли актрисы, то ли поэтессы, разрушило их с Ливановым ситуативный союз, да и вообще отодвинуло его, Мальцева, куда-то на периферию общего разговора. Солировал теперь Герштейн. Он всегда начинал солировать, как только Ливанов отвлекался.
— Дима, я сейчас скажу одну страшную вещь, а ты потом делай со мной, что хочешь, отказывай от дома — хотя, признаюсь, было бы жаль. Так вот. Этой стране, как ни крути, по большому счету всегда везло со властью.
По сорокаметровой ливановской кухне прошел ропот, чем Герштейн очень вдохновился, пускай Ливанов лично в ропоте и не участвовал. Но слушал заинтересованно, это да. Неудобно зажатая у него под мышкой Катенька не смела пискнуть.
— В какую бы задницу нас ни загоняли обстоятельства, — вдохновенно развивал Герштейн, — наша власть всегда умудрялась выкрутить ситуацию пусть самой противоестественной буквой «зю», но себе во благо. А по касательной зацепляло и всю эту страну, с которой она, власть, всю жизнь себя ассоциировала.
— В отличие от народа, — бросил хмурый бородач, которого никто не знал по имени-фамилии, только в лицо. Но в лицо знали абсолютно все. И все обычно замолкали, когда он изволил чего-нибудь хмуро бросить, обычно малопонятного либо допускающего несколько равноправных толкований. Ливанов его терпеть не мог, но почему-то все-таки терпел, каждый раз болезненно морщась, будто жевал целый лимон со шкуркой.
— Возьмем то же глобальное потепление, — заспешил Герштейн, заполняя гнетущую паузу. — Допустим, теперь у нас чудесный климат. Но мало ли известно в истории нищих стран, где он был еще более чудесным до потепления? Однако это им не помогло, потому что на климат там плевали с высокого дерева, занимаясь делами поважнее — делили власть. А в этой стране власть неделима по определению, с чем народ смирился еще в незапамятные времена. Правда, есть еще гнилая интеллигенция, которой в этой стране положено власть ненавидеть. А почему, спрашивается? Меня лично она устраивает.
Он панорамно оглядел собравшихся, улыбаясь с хитрым прищуром. Зафиксировал улыбку и победный взгляд на Ливанове. Тот выдержал паузу, а затем громоподобно расхохотался:
— Ты дурак, Герштейн, — провозгласил он. — Но ты феерический дурак, и за это я тебя люблю. Давай выпьем, что ли.
— Дим, а может быть, тебе хватит? — шепнула Катенька, снова дисгармонично выпадая из образа.
Извицкая уничижительно глянула поверх ее головы, Ливанов поймал извицкий зеленый взгляд, как бадминтонный воланчик, и понимающе пожал плечами: что, мол, с такой возьмешь. Извицкая улыбнулась и стала похожа на человека. Все выпили.
Массен в который раз попробовал встать, но его усадили на место с двух сторон Герштейн и Соня Попова. К Соне, полной и русокосой, будто с национального рекламного плаката, Массен в начале вечера пытался приставать, но она словно и не замечала его поползновений, влюбленно пялясь на Ливанова. В этой стране, наконец-то внятно сформулировал Массен, видимо, принято пялиться на Ливанова. Более или менее влюбленно.
— А вообще-то вы все правы, — устало и довольно изрек хозяин. — Хорошая у нас страна. Замечательная страна, особенно если сравнивать с ближайшими соседями. Это я не вам, Массен, хотя и вас тоже касается, чего уж там. Меня, кстати, на днях приглашали в ток-шоу на телевидение из Банановой республики, и я даже согласился, больно уж у них весело…
— А у нас где-нибудь можно будет посмотреть? — встрепенулся Виталик Мальцев. Он отслеживал все интервью Ливанова, его выступления в прессе, эфиры и программы с его участием, а потом выкладывал линки в интернет, в ливановское ЖЖ-сообщество, совершенно бесплатно, на энтузиазме. Дмитрий Ильич, кажется, ценил. Но вопроса все равно не услышал.
— Забыл, на какое число… Поднимись, солнышко, достану искусственный интеллект. Н-да, похоже, что на сегодня. Пролетели они со мной. Но они всегда пролетают, они привыкли, они так живут, — Ливанов сунул блокнот в карман и водворил Катеньку на место. — А эта страна живет хорошо и правильно. Только вот счастья в ней нет и не будет. Или я уже говорил?
— Ливанов, — раздельно отчеканила Извицкая, — а ты не допускаешь мысли, что это твои личные проблемы? Только твои, а не этой страны целиком?
Катенька вскинулась, чуть было снова что-то не ляпнула, но в последний момент, к счастью, передумала, молча обняла Ливанова покрепче и поцеловала куда дотянулась — чуть ниже уха.
— Дима, в отличие от власти, ассоциирует себя не только со страной и даже не только с народом, — встрял Герштейн. — Он вообще со всем на свете себя ассоциирует, что чревато когнитивным диссонансом…
Массен решил отступать потихоньку сейчас, пока Герштейн солирует и не замечает, не слыша никого, кроме себя, любимого и фееричного, как и было сказано. Виталик Мальцев посмотрел на часы, он не предупредил маму, и она, конечно, уже начала контрольный обзвон по всем номерам его записной книжки. Но, в отличие от Массена, уходить он не собирался, не каждый же день выпадает такая невероятная удача.
Вошла пожилая ливановская горничная и молча сгребла со стола посуду с остатками закуски, а из-под оного — пустые емкости от спиртного. Ливанов показал ей растопыренную пятерню, тетенька кивнула и удалилась.
— Допускаю, Извицкая, — сказал он. — Ты слишком умная, иногда тебе это идет. Но очень редко.
Зависла пауза. Такая, что позавидовал бы даже мрачный бородач с неизвестными именем-фамилией.
Горничная вернулась, толкая перед собой столик, уставленный бутылками разного оттенка, высоты и формы, с веселыми разноцветными крышечками. Ни одной одинаковой. В смысле, ни двух.
И вечер возобновился радостно и шумно.
* * *
Проснувшись утром, Ливанов обнаружил, что все забыл.
Не вчерашний вечер, то есть, не в нем дело, там и помнить-то было нечего. Ну набухались, ну потрындели на кухне в лучших интеллигентских традициях этой страны, и Герштейн наверняка объяснялся в извращенной любви к власти, надеясь на благосклонность бородатой сволочи, давно пора дать по морде — но, кажется, вчера он, Ливанов, не дал и не даст никогда, пускай живет. И баб, скорее всего, опять было меньше, чем хотелось бы, да и времени на них не особенно хватало, а потом он вообще уснул, и только после этого все спохватились и начали расползаться. Неинтересно и неважно.
Ознакомительная версия.