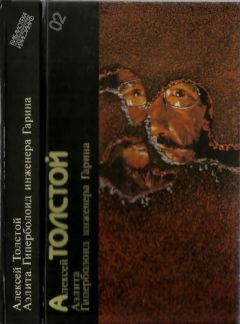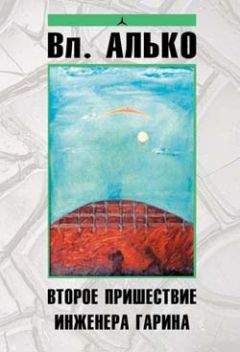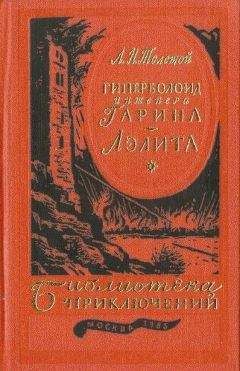Действительность, о которую «подошвы царапнули», — уездный городок с его немощеными улочками, гнилые заборы, заплатанные досками домишки… Никто не поддерживает разговоров Буженинова о голубых городах. «Огненной метлой выметены помещики и капиталисты», но живучи конторщик Утевкин, оборотистый Сашок… Все доносят друг на друга «куда следует».
Со времени опубликования «Голубых городов» пошло лишь третье поколение. В бывших уездных городах «дома из голубоватого цемента и стекла» пока еще уныло возвышаются среди «заплатанных досками домишек», но это вопрос времени и работы «железных законов экономики». Впрочем, обыватель может освоиться в любой, даже самой фантастической с точки зрения техники обстановке и строить в ней моральный микроклимат на свой салтык. Процесс преобразования душ протекает медленнее, чем развитие техники. Однако поджог старого города и утверждение на пепелище, вместо флага, плана голубого города — это не выход, а скорее, народное бедствие.
Толстого обвиняли, что он утверждает «идею поражения победоносной революции в столкновении с бытом». Предупреждали против «широких обобщений» и «похода против плана». Однако А. В. Луначарский увидел, как Алексей Толстой в своем рассказе, «не будучи ничуть коммунистом и не зачисляемый многими даже в разряд попутчиков… волнующе ставит в художественной форме проблемы дня».
Не максимализм и не приспособление к обывательскому образу мышления и жизни, а кропотливая работа над достижением изобилия, потому что трудности, в том числе экономические, одних зовут к подвижничеству, у других же выявляют далеко не лучшие свойства человеческой натуры, — вот смысл художественного видения Алексея Толстого, так артистично сопрягавшего в своем творчестве историческое прошлое, действительность и фантастическую мечту, которую никак не следует путать с пустой мечтательностью.
Поток впечатлений, обрушившийся на Толстого по возвращении на Родину, не заслонил пережитого, которое в творчестве писателя на первых порах получало авантюрно-приключенческий отклик. Есть несомненное родство между одной из лучших, на пат взгляд, повестей А. Толстого «Похождение Невзорова, или «Ибикус» и романом «Гиперболоид инженера Гарина». То и другое написано стремительно, ясно, ярко, иронично, увлекательно и весьма дерзко с точки зрения стилистической, литературной.
Были разные мнения по этому поводу. Писатель-де не нашел еще себя в новой среде. Толстого обвиняли в неприятии «орнаментальной» прозы. В потакании вкусам читателей, уставших от передряг и ищущих в романах развлечения, что подтверждается: высказыванием Горького: «Быт, психология — надоели».
И в самом деле, авантюрно-детективные романы, замешенные на фантастике, заполонили тогда книжный рынок, Возникло словосочетание «красный Пинкертон». С одной стороны, вроде бы бульварщина, а с другой — новая погудка на старый лад, быстрый отклик на социальный заказ. «Месс-Менд» и «Лори Лэн — металлист» М. Шагинян, «Трест Д. Е.» И. Эренбурга, «Иприт» Вс. Иванова и В. Шкловского, «Остров Эрендорф» и «Повелитель железа» В. Катаева, «Крушение республики Итль» Б. Лавренева и прочие сочинения такого рода выполнили свою задачу и прожили положенное им время. И давно уже созданы были стереотипы, которые не могли не вызывать улыбки и просились в пародию. Памятуя настороженное к себе отношение, Толстой решился на скрытое литературное озорство, но в силу своего таланта и художественного воплощения передовых идей создал произведение, которое качественно превосходило пародируемые сочинения и потому обрело долгую жизнь.
О пародийном характере «Гиперболоида инженера Гарина» догадывались многие литературоведы, которые, не употребляя слова «пародия», говорили о злодейской гротескности нравственного облика Гарина, о готовых «масках», надетых персонажами, о точно сошедшем с антиимпериалистического плаката мистере Роллинге, об опереточном капитане Янсене, о типовых негодяяя Семенове, Тыклинском и других, о розовом, кочевавшем из романа в роман советском сыщике Василии Витальевиче Шельге (не озорное ли тут совпадение с именем монархиста Василия Витальевича Шульгина?), о женщине-вамп Зое Монроз.
Многое в этом романе написано условно и небрежно, как, например, диалог Зои с капитаном Янсеном на борту яхты «Аризона»:
«— Доброе утро, Янсен.
— Имею честь доложить, курс — норд-вест, широта и долгота (такие-то), на горизонте курится Везувий…»
Чего уж проще было бы взглянуть на карту, посмотреть координаты Неаполя и написать для убедительности, их вместо «такие-то». Но это не нужно ни писателю, ни читателю. Точные числа лишь мешали бы, противоречили правилам игры, развитию сочинения на заданную тему, восприятию художественной подробности.
«Капитан был весь белоснежный, выглаженный, — косолапо, по-морски, изящный. Зоя оглянула его от золотых дубовых листьев на козырьке фуражки до белых туфель с веревочными подошвами. Осталась удовлетворена».
Не знаю на кого как, а на меня эти белые туфли с веревочными подошвами при всяком чтении производили впечатление. Деталь!
Калейдоскоп сговоров, драк, побегов, налетов — полный приключенческий набор, но какими убедительно художественным подробностями это оснащено, как захватывающе зримы описания, как чувствуется жест за каждой репликой! И вот тут мысль, о пародии отступает на задний план, а само развитие романа начинает работать на идеи, в которых нет ничего пародийного. Как и в научно-фантастических предположениях.
Летом 1924 года, представляя заявку в издательство, Толстой писал:
«Время действия — около 1930 года. Роман развертывается на фоне кануна второй мировой войны. С середины романа — происходит воздушно-химическая война. В конце — европейская революция». И обещал, что «роман будет авантюрный, героический и утопический».
Отчасти обещание было выполнено.
Уже говорилось о впечатлениях от пережитого за границей, использованных для фактуры романа. Советская действительность в нем ограничена Крестовским островом. Толстой мысленно возвращается в неприютную для него Европу, и особенно в Париж, который заиграл в романе мрачными, но очень живыми красками. Бессмысленно пересказывать все перипетии грандиозной гаринской авантюры, да их и знает каждый. Главное — толстовский язык и остромыслие, захватывающее с самого начала романа, с передачи размышлений верховного швейцара парижской гостиницы «Мажестик»:
«Женщины были хороши, что и говорить. Молоденькие прельщали молодостью, блеском глаз: синих — англосаксонских, темных, как ночь, — южноамериканских, лиловых — французских. Пожилые женщины приправляли, как острым соусом, блекнущую красоту необычайностью туалетов.