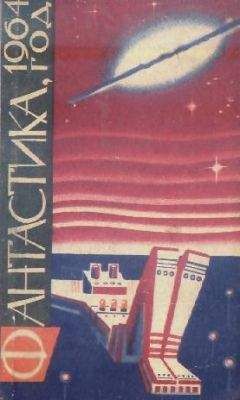— Ну и что же Михайлов сказал на суде? — спросил я.
— А что? Все то же, что и раньше. Шли, говорит, вдвоем, впереди Курилин, за ним — я. Когда подошел к реке, Курилина не было. Туда-сюда, нашел только мешок, что тот нес, да его шапку, к берегу прибитую волной. Решил, что утонул Курилин. Вот и все. Кто-то спросил: значит, Курилин, перед тем как утонуть, решил оставить ему всю наличную провизию? Михайлов побледнел, но спокойно ответил, что, перед тем как ищут брод, все тяжести с себя сымают. И тут я увидела Наталью. Без кровинки в лице, а глаза так и сверкают. Приметила я, что ребенка она ожидает. И кто его знает почему, но стала моя обида утихать. И как начали громить Михайлова все, кто был в зале, за его ложь, я что-то совсем размякла. Конечно, не жалко мне было этого сукиного сына, что товарища в беде бросил, а жалко мне Наташку, а еще больше того ребеночка, который будет. Каково ему знать, что отец его подлец распос- ледний! И пока Михайлов там выворачивался и пытался концы с концами связать, а они никак не связывались, потому что если человек жив после переправы остался, то не могли же они так по-простому разминуться, этого уж никак нельзя объяснить. Всем было ясно — ушел от Николая Михайлов, сбежал с запасом еды, свою шкуру спасал. Да ясно-то ясно, а доказать нельзя.
— Ну и чем же все это кончилось? — спросил я, пытаясь воссоздать в памяти лицо Лопоухого. Интересно: похож он на своего отца или нет?
— А ничем. Я выступила в защиту Михайлова. Мертвому — мертвое, а живому — живое. Думала я только об их ребенке. Так что Михайлова и не оправдали и не обвинили. Известное дело, товарищеский суд. Ну, порицание все же записали и по- ручили расследовать это дело органам. После всего этого по- дошла ко мне Наталья, руку пожала. Говорит: «Спасибо, Ма- шенька, за доброе слово, только все это зря». И действитель- но, развелась она через месяц с Михайловым, а через два месяца и ребенка родила, этого самого Бориса. И про отца ему ни гугу. Одно слово-запятнанный человек. Здорово мы с ней тогда подружились, и наши ребятки хорошо ладили, всю войну мы с ней вниманием друг друга не оставляли.
— А что же с Михайловым?
— Убили его в первые же недели войны. А Наталье после войны возжа под хвост попала. «Хочу, говорит, замуж. Мне еще пожить хочется». Разругались мы с ней начисто, она сына сов- сем забросила, только собой занимается. Вышла-таки за своего Ревина, зато Борис совсем от рук отбился. Замкнутый стал, нелюдимый, молчит все больше. Однако с Валериком продолжал дружбу поддерживать.
— А про отца своего он знал что-нибудь?
— Никто ему не говорил. Ни она, ни я. Но, по-моему, знал он все. Наверно, нашлись «добрые» люди. И мучился про себя он, видно, здорово, но молчал и ни с кем не делился. Даже с Валериком.
— Так в чем же вы находите вину Михайловой? Она, по-мое- му, поступила совершенно правильно.
— Правильно-то правильно. Ты, малыш, еще не женат, навер- но, и многого понять не можешь. Как-то раз она мне сказала: «Вот Борис мне сын, а я не могу к нему открыто, по-материнс- ки, относиться. Все время перед глазами тот подлец стоит, мешает». Значит, давала она почувствовать сыну что-то такое, что ребенку знать не след. Выискивала и ожидала каждую мину- ту, что Борька тоже какую-нибудь подлость сделает. Разве это справедливо? Дети за отцов не в ответе. Отсюда и получился Борис смурной да упрямый. И этот припадок сейчас не иначе, как на нервной почве.
— Ну-у, это уж вы зря! — сказал я.
— Вот те и зря! Кабы не знал Борис всего о своем отце да мать вела себя иначе, другим бы человеком он был. Ну да лад- но. Я тебе всю жизнь выболтала. Хватит прохлаждаться. Поеха- ли в Столбовую.
— Пожалуй, я сегодня не смогу, — сказал я нерешительно.
— Что, уже пороху не хватило? Вот нынешняя молодежь — вся такая. На удовольствие жадная, а на доброту да сочувствие — хлипкая. Ладно, бог с тобой. Только об одном тебя попрошу. Поезжай ты к Ревиным, мать предупреди, что сын в больнице. Как-никак… А то мне с ней разговаривать больно неохота.
Я согласился. Мы расстались у выхода из парка.
Мне не особенно хотелось ехать к Ревиным. Что я там уви- жу? Немолодую женщину, влюбленную в нового мужа и поглощен- ную своим счастьем? Нет, я не пойду туда, в конце концов все это меня очень мало касается. Лопоухий, то есть Борис Ревин, заинтересовал меня как случай незаурядный, из ряда вон выхо- дящий, но… Но слишком мелкой оказывается причина. Какая-то семейная драма, плохое воспитание — чепуха, одним словом. Я не поехал.
Зайдя на почту, я написал матери Бориса открытку о слу- чившемся и приписал туда же телефон Курилиной. Пусть старые приятельницы возобновят свои дружеские контакты. А с меня хватит.
Через два дня я уехал в Крым.
ЧЕРТ СОРДОНГНОХСКОГО ПЛАТО
Валерий Курилин, геолог.
Сон отлетел от меня в мгновение ока, я зябко поежился и застегнул верхнюю пуговицу телогрейки. На востоке сквозь плотную синесвинцовую завесу едва пробивались первые малино- вые полосы. Осторожно, чтобы не разбудить товарищей, я вылез из палатки и опустил за собой брезентовый полог.
Милка встретила меня тихим счастливым повизгиванием. Завертевшись у моих ног, она превратилась в круг из белых, рыжих и черных пятен. Я наклонился и успокоил собаку. Нужно было вспомнить, не забыл ли чего. Патроны с дробью, охотничий нож за голенищем, на всякий случай два медвежьих жакана в левом кармане, бутерброды, фляжка с перцовкой, спички… Что же еще?
Как будто все. Можно идти.
Куда ни глянь, всюду болото. В сущности, все огромное Сордонгнохское плато — сплошная марь. Я люблю болота. И не потому, что я геолог-торфоразведчик. Торф — это лишь один из каустобиолитов, пожалуй, самый скромный из горючих ископаемых. Я люблю болота не из-за торфа.
Моя любовь, если можно так сказать, диалектична. Она про- ходит через отрицание. Чего стоят одни только бесконечные переходы по вязкой и зыбкой почве!
Раздвинутый тростник сейчас же с шелестом сдвигается за тобой. Точно говорит: нет тебе дороги назад — и все тут. Есть в этом что-то экзотическое, что-то заставляющее припом- нить детские забытые мечты… Дремучий тростник в два чело- веческих роста.
Под ногами хлюпает вода, даже не хлюпает — чавкает. Почва упруга, и след остается не очень глубокий, но зато сразу же начинает наполняться мутноватой жижей. Вот уже семнадцать дней мы, четверо молодых парней, работаем на Сордонгнохских займищах, ^его тут греха таить, проклятая эта работа. Идем мы обычно осторожно и медленно, тщательно выбираем путь. Плечи ноют под тяжестью теодолитных и нивелирных стальных штангобуров. Я люблю, чтобы в походе руки были свободны. Но это не всегда удается. Порой приходится прихватывать то ящик с прибором, то еще что-нибудь.