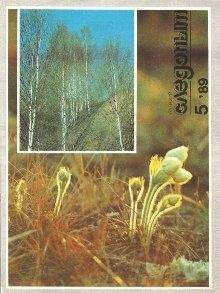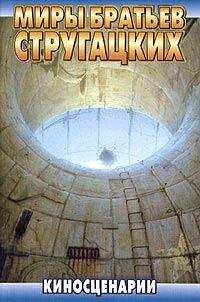— И вы об этом хотите написать?
— Разумеется! — сказал Максим. — Но этого мало.
— Мало — для чего? — спросила она, и на лице у нее появилось странное выражение — словно она с трудом сдерживает смех. У нее даже глаза заблестели.
— Понимаете, — сказал Максим, — мне хочется взять гораздо шире. Мне хочется показать становление Абалкина как крупнейшего специалиста в своей области. Ведь на стыке зоопсихологии и социопсихологии он произвел что-то вроде…
— Но он же не стал специалистом в своей области, — проговорила Майя Глумова. — Ведь они же сделали его прогрессором. Они же его… Они…
Не смех она, оказывается, сдерживала, а слезы, и теперь перестала сдерживать — упала лицом в ладони и разрыдалась. Она плакала, она судорожно вздыхала, всхлипывала, слезы протекали у нее между пальцами и капали на стол, а потом вдруг принялась говорить — будто думала вслух, перебивая самое себя, без всякого порядка и безо всякой видимой цели.
— …Он лупил меня… Ого, еще как!.. Стоило мне поднять хвост, и он выдавал мне по первое число… Плевать ему было, что я девчонка и младше его на три года: я принадлежала ему — и точка!.. Я была его вещью, его собственной вещью. Стала сразу же, чуть ли не в первый день, когда он увидел меня… мне было тогда пять лет, а ему восемь. Он бегал кругами и выкрикивал считалку собственного сочинения: «Стояли звери — около двери — в них стреляли— они умирали!» Десять раз, двадцать раз подряд… Мне стало смешно, я захихикала, и вот тогда он выдал мне впервые…
…Вы не понимаете, как это было прекрасно — быть его вещью. Потому что он любил меня. Он больше никого и никогда не любил. Только меня! Все остальные были ему безразличны. Они ничего не понимали и не умели понять. Только я умела. Он выходил на сцену, пел песни, читал стихи — для меня. Он так и говорил: «Это для тебя. Тебе понравилось?» И прыгал в высоту — для меня. И нырял на сорок два метра— для меня. И писал ритмическую прозу по ночам — тоже для меня. О-о-о, он очень ценил меня, свою собственную вещь, и он все время стремился быть достойным такой ценной вещи. И никто ничего об этом не знал. Он всегда умел сделать так, чтобы никто ничего о нем не знал. До самого последнего года, когда об этом узнал Федосеев, его учитель…
…У него было еще много собственных вещей. Весь лес вокруг был очень большой собственной вещью. Каждая птица в этом лесу, каждая белка, каждая лягушка в каждой канаве. Он повелевал змеями, он начинал и прекращал войны муравейников, он умел лечить оленей, и все они были его собственными. Кроме старого лося по имени Рекс. Этого он признал равным себе, но потом с ним поссорился и прогнал из леса…
…Дура, дура! Все было так хорошо, но я-то, дура, не понимала, что все хорошо, я подросла и вздумала освободиться. Я прямо ему объявила, что не желаю больше быть его вещью. Он отлупил меня, но я была упрямая, я стояла на своем, проклятая дура. Тогда он снова отлупил меня, по-настоящему, беспощадно, как он лупил своих волков, когда они пытались вырваться из повиновения. Но я-то была не волк, я была упрямее всех его волков вместе взятых, и тогда он выхватил из-за пояса свой нож… у него был нож, никто не знал, он нашел кость в лесу и сам выточил из нее нож… И вот этим ножом он с бешеной улыбкой медленно и страшно вспорол себе руку от кисти до локтя. Стоял передо мной с бешеной улыбкой, кровь хлестала у него из руки, как вода из крана, и он спросил: «А теперь?» Он еще не успел повалиться, как я поняла, что он прав. И был прав всегда, с самого начала. Только я, дура, дура, дура, так и не захотела признать это.
…А в последний его год, когда я вернулась с каникул, ничего уже не было. Что-то произошло. Наверное, они уже взяли его в свои руки. Или узнали обо всем и, конечно же, ужаснулись неизвестно чему, идиоты, проклятые заботливые кретины… Он посмотрел сквозь меня и отвернулся. Я перестала существовать для него. В точности, как и все остальные. Он утратил свою ценную вещь и примирился с потерей… А когда он снова вспомнил обо мне, все уже было по-другому. Жизнь уже навсегда перестала быть таинственным лесом, где он был владыкой, а я — самым ценным, что у него было в этом лесу. Они уже начали превращать его, он уже был почти прогрессор, он уже был на полпути в другой мир, где предают и мучают друг друга. И видно было, что он стоит на этом пути твердой ногой, он оказался хорошим учеником, старательным и способным… Он писал мне, я не откликалась. Ему надо было не писать и не звать, а приехать самому и отлупить, как встарь, и тогда все, может быть, и стало бы по-прежнему. Но скорее всего — нет. Ведь он уже больше не был владыкой. Он стал всего лишь мужчиной, каких было много вокруг… И он перестал мне писать…
…Последнее письмо его… Представляете, он всегда писал только от руки, никаких кристаллов, никаких транскрипторов, только от руки… Последнее письмо он прислал мне как раз оттуда, с вашей Голубой Змеи. И знаете, что он там написал? «Стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали». И больше ничего. Ни одного слова. Ни имени, ни подписи…
…Но все равно я ждала его. Вчера он объявился, и я сразу поняла: все двадцать лет я ждала этого дня… Дура несчастная, чего я дождалась!..
Она вдруг. замолчала и, словно очнувшись, уставилась на Максима. Глаза у нее были сухие и блестящие, совсем больные глаза.
— Кто вы такой? — спросила она.
— Меня зовут Максим Каммерер, — ответил журналист Каммерер, всем видом своим изображая крайнюю растерянность. — Я в некотором роде писатель… но ради бога… Я, видимо, попал не вовремя… Понимаете, я собираю материалы для книги о Льве Абалкине…
— Что он здесь делает?
— В каком смысле?
— У него здесь задание?
Журналист Каммерер обалдел.
— 3-задание? Какое задание?.. Майя Тойвовна, ради бога, не подумайте только… Считайте, что я ничего здесь не слышал… Я уже все забыл… Меня здесь вообще не было… Видите ли, у меня такая манера работы. Я начинаю с периферии: сотрудники, друзья… учителя, разумеется… наставники… а потом уже, так сказать, во всеоружии приступаю к главному объекту моего исследования… У нас с вами получилось какое-то ужасное совпадение, и не более того… Я же не слепой, я же вижу…
— Да, — сказала она. — Это совпадение.
Она откинулась в кресло и прикрыла лицо ладонью. Ей было нехорошо. Ей было стыдно.
— Совпадение и более ничего… — бормотал журналист Каммерер. — И забудем… Ничего не было… Потом, когда-нибудь… когда вам будет удобно… угодно… я бы с величайшей благодарностью, разумеется… Майя Тойвовна, может, позвать кого-нибудь? Я мигом…
Она молчала.