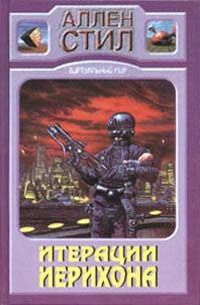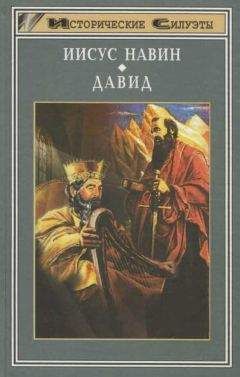Редкие аплодисменты из первых рядов вокруг оркестровой ямы. Дайте нам ваших бедных, ваших отверженных, ваших несчастных, тоскующих о свободе…[2] и если мы не дадим им свободы, то дешевых развлечений хватит на всех. Но на дальних рядах амфитеатра под открытым небом только немногие обращали внимание на представление. Не меньше тысячи людей собралось сегодня в амфитеатре Муни, терпя холодный дождь и глядя на парад бездомных и полусумасшедших ораторов, проходивших через подмостки. По десятибалльной шкале бывший адвокат еле вытягивал на четверку.
— Музыку давай!
Это крикнула какая-то женщина из задних рядов. На одном крыле сцены стояла группа рок-музыкантов, ждущая своего часа быстро поставить свою кухню и что-нибудь сыграть за талоны на еду, которые им, быть может, кинут на сцену.
Адвокат либо не услышал, либо не обратил внимания.
— Два! — надсаживался он чуть уже треснувшим голосом. — Бита должна быть достаточно легкой, чтобы ты ее крутил с максимально возможной скоростью! — Он хлестнул битой по воздуху, как двадцать лет тому назад на стадионе Буша крутил Оззи Смит, ударяя по низкому мячу. — Вот тогда ты вышибешь ихние говенные мозги на засранный асфальт!
Несколько одобрительных выкриков, на этот раз с задних рядов. Он завладел вниманием аудитории: ничто так не привлекает людей, как ненаправленная ненависть. Однако мне показалась знакомой бита. Я продвинулся к краю сцены и вгляделся сквозь дождевую морось. На черной поверхности биты сверкнули белые автографы.
О Господи, это же святотатство. Этот сумасшедший щенок посмел наложить свои лапы в бейсбольных перчатках на одну из бит, выставленных в Кардинальском Зале Славы. Украл, наверное, вскоре после землетрясения, когда на стадионе Буша кишели бездомные, а Войска Чрезвычайного Реагирования еще не выгнали мародеров и не устроили на стадионе свою штаб-квартиру. К тому времени все, что имело хоть какую-нибудь ценность, с витрин мини-музея уже сперли. Я только молил Бога, чтобы у него в руках не оказалась переходящая бита чемпиона — это было бы худшее из оскорблений. Бита, на которой расписался сам Стэн Мьюзайл или Лу Брок, — в руках зловредного психа.
— Три! — завывал он. — Бита должна быть длинной и доставать через дом до зоны удара из правильной позиции в квадрате бэттера!
— Долой со сцены! — завопил кто-то из амфитеатра.
Свихнутый яппи не обратил внимания.
— Помните, длинной битой труднее крутить при любом весе! — Он угрожающе взмахнул битой. — И потому ты должен стоять так близко, чтобы все его зубы пересчитать еще до того, как вышибить их из грязной пасти!
Теперь, когда я знал, откуда бита, я сообразил. Он выкрикивал (со своими комментариями) список рекомендаций для бэттера, вывешенный в Зале Славы рядом с «Луисвильским подающим». Эти инструкции были написаны для игроков «Детской лиги» и других потенциальных чемпионов-«Кардиналов»; сейчас их выкрикивал, завывая, псих, который вогнал бы в дрожь и каннибала. Невинные советы, возродившиеся в виде руководства по садистскому человекоубийству.
(А вот и еще одно воспоминание всплыло: за пару недель до Нью-Мадрида мы с Джейми в субботу возвращаемся на Метролинке со стадиона, где «Кардиналы» станцевали чечетку на костях «Сант-Петербургских Гигантов»:
— Па!
— Чего, сын?
— А я в следующем году смогу играть в «Детской лиге»?
— Н-ну… там посмотрим.)
— Вали отсюда! Не смешно!
Воспоминание о солнечном субботнем дне с Джейми испарилось так же быстро, как возникло. Я был полностью согласен: совсем не смешно. Даже если это и было смешно когда-то.
В амфитеатр Муни я пришел в поисках чего-нибудь для репортажа в «Биг мадди инкуайрер». Крайний срок был пятница, и Перл уже заглядывал мне через плечо, ожидая моей еженедельной колонки. А я недавно слышал, что сквоттеры сломали замки на воротах Муни и превратили летний амфитеатр в место несанкционированных митингов, и потому пошел в Форест-парк послушать какие-нибудь революционные манифесты. Я думал, что там будет полно последователей Маркса или Мао Цзэдуна, вопящих в надежде вырваться из клетки… или просто так вопящих. Точка.
Но пока что попался только один интересный оратор — психованный фанатик «Кардиналов», да и то обстановка была слишком напряженной даже без его советов по использованию украденной бейсбольной биты как орудия убийства. Я отвернулся от сцены и пошел вверх по левому проходу. Когда я вышел из-под навеса над сценой, по козырьку моей кепки заколотил мелкий частый дождь.
Вокруг толклись новые жители Форест-парка, оставшиеся бездомными после нью-мадридского землетрясения. Кто после самого землетрясения, а кто после голодных бунтов декабря, когда сожгли до основания черт-те сколько переживших землетрясение домов.
Форест-парк — самый большой муниципальный парк в стране. До событий прошедшего мая это было приятнейшее место для тихого воскресного отдыха. Здесь когда-то проводили Всемирную ярмарку, потом Олимпийские игры — это все больше столетия назад. Теперь же парк стал островком культуры третьего мира, который взяли да воткнули посреди Америки, и амфитеатр остался единственным бесплатным развлечением для широких масс городских бездомных. Томми Тьюн уже не танцевал по сцене, и давно уже умерла Элла Фитцджеральд, и «Кэтс» или «Гранд-отель» не возили сюда артистов на гастроли, но все же люди сюда приходили — хоть на что-то поглазеть.
Я шел вверх по ступенькам и разглядывал унылую толпу. Мужчины, женщины и дети, молодые и старые, в одиночку и с семьями, белые, черные, латиноамериканские, монголоидные. Ничего общего, кроме положения на нижней ступеньке общественной лестницы. Одетые в дешевые пончо, хэбэшные пиджаки и побитые молью пальто от Армии Спасения. У некоторых нечем было даже прикрыться от дождя, если не считать пластиковых пакетов для мусора и размокших картонных коробок. Неверный вспыхивающий свет нескольких еще не разбитых натриевых ламп высвечивал на лицах отчаяние, боль, голод…
И гнев.
Больше всего — гнев. Унылая, полуосознанная, безнадежная бешеная злость людей, на которых вчера всем было наплевать, сегодня наплевать и завтра им опять, как ни крути, стоять под плевками.
На середине пути меня отпихнул дородный мужик, шедший мне навстречу вниз; я споткнулся о кресло и чуть не упал на колени молодой женщине с ребенком на руках. Ребенок жевал кусок правительственной помощи бутерброд с сыром. Из-под капюшона тесного анорака глядели блестящие от жара глаза, из носа тянулась длинная полоска слизи — ребенок был болен. Если повезет, отделается простудой, хотя тут и пневмонию недолго заполучить. Его мать вскинулась на меня с молчаливой, но непримиримой злостью: чего уставился? — и я быстро отступил.