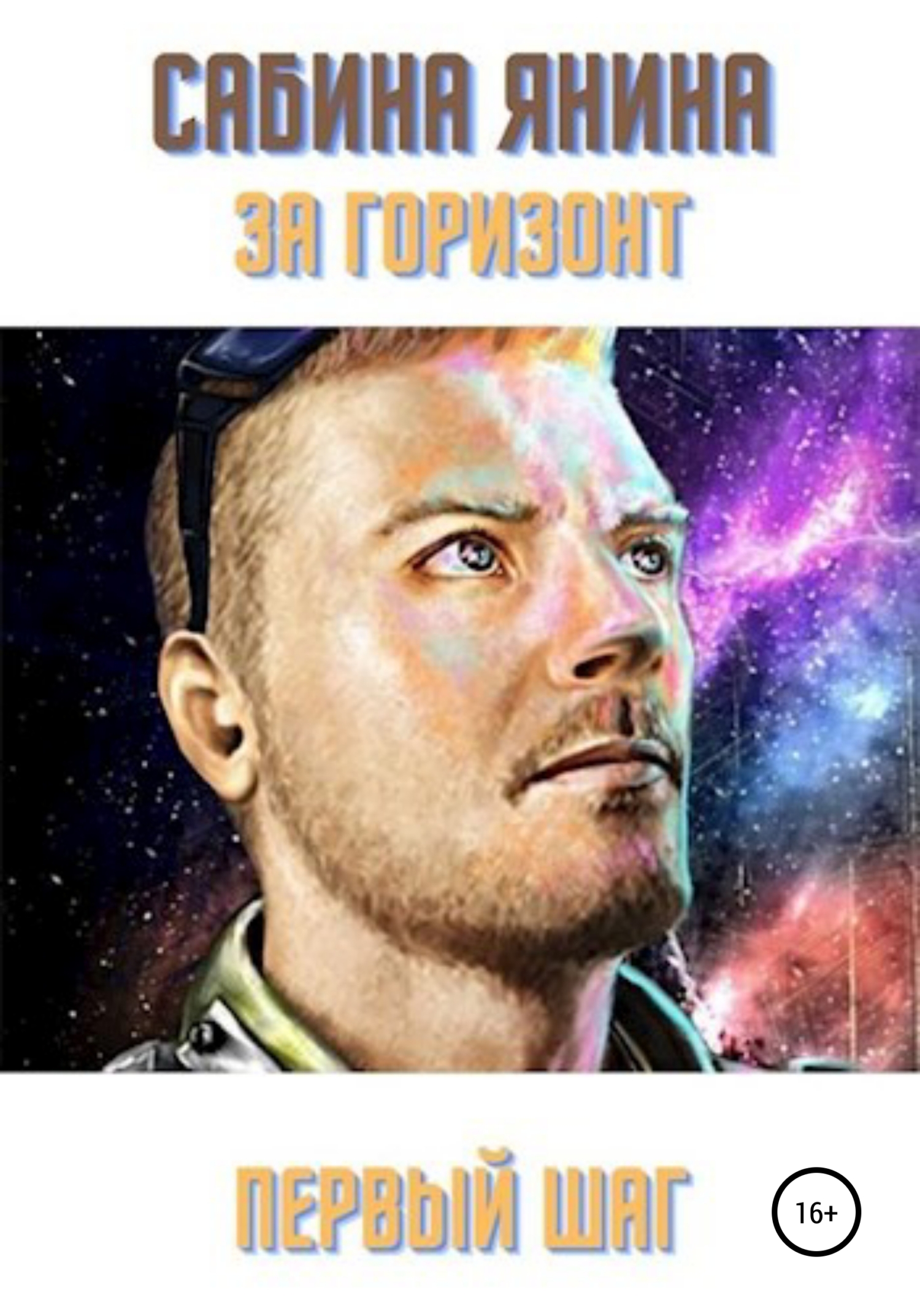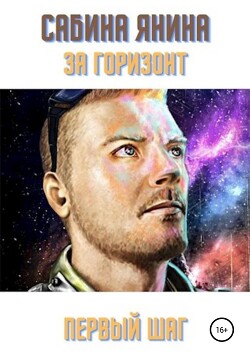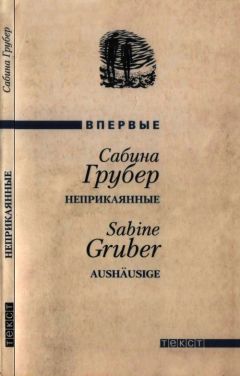принял постриг, – отец Окимий протянул мне руку. Она была такая холодная и невесомая, что я испугался, что он может покинуть нас в любую минуту.
– Клянёшься? – его глаза чёрной бездной смотрели на меня.
– Это невозможно, – начал я, но вдруг острая жалость сдавила грудь, мне захотелось как-то облегчить его перед смертью.
– Хорошо, хорошо! – сам не зная как, произнёс я. – Отец Окимий, вы не переживайте ни о чем, я сделаю все что нужно, что правильно. Обещаю вам. А сейчас вам нужно отдохнуть.
Одинокая слеза вдруг скатилась из уголка его глаза и по глубокой морщине на щеке спряталась в бороде. У меня перехватило дыхание, на глаза навернулись слезы и спазм сдавил горло:
– Клянусь, – прошептал я.
– Хорошо, – тихо вздохнул Отец Окимий и прикрыл глаза. – Ступай. Нам предстоит много чего сделать. Мне надо набраться сил. Займись, пожалуйста, материалами. Надо привести их в порядок, подготовить…
Я осторожно положил его руку на постель и поднялся.
Отец Окимий открыл глаза:
– Да. На счёт отца Фивия не беспокойся. Я сказал, что ты будешь жить в поселении и работать в обсерватории как мой гость, пока сам не примешь решения о своей дальнейшей судьбе. Работай спокойно, – и, чуть помедлив, добавил, – и не нужно пока никому говорить. Ну, всё. Ступай. Ко мне не приходи больше, работай. Готовься к постригу. Я, даст Бог, сам скоро присоединюсь к тебе, – он чуть дрожащей рукой перекрестил меня.
Я вышел.
Наступило девятнадцатое августа – день Преображения Господня или как называли его поселяне, Яблочный Спас – большой христианский праздник. В этот день я должен был принять постриг. Отец Окимий к этому времени немного окреп и уже не только поднимался с постели, но иногда приходил в лабораторию, однако проводить праздничные богослужения в храме уже не мог и почти не выходил из обсерватории. Видимо, чувствуя свою скорую кончину, духовником моим он назначил отца Ануфрия. Я помнил этого седого старца с лучистыми глазами ребёнка по нашей с ним встрече, когда я впервые пришёл в монастырь. Тогда он мне сразу понравился. Маленький, худой, с белой бородой до пояса, но быстрый, он словно всё время спешил куда-то, сильно сутулясь и опираясь на клюку. Сначала облик его, сгорбленный от постоянной работы, и большие натруженные руки со взбухшими тёмными венами, вызвали у меня жалость. Но взглянув в его глаза, чистые и спокойные, как летнее небо, смотревшие так по-доброму, как может смотреть только друг или родной любимый человек, забываешь о жалости, а проникаешься ответной доброжелательностью и тихой радостью. Сразу становилось понятно, почему монахи именно его выбрали на должность духовника монастыря: только такому человеку могла быть доверена тайна исповеди.
Сегодня после литургии я должен был исповедаться, причаститься и принять постриг, что меня сильно нервировало. Вот взять, к примеру, исповедь. Нет, не то чтобы мне был тяжёл суточный пост, который предшествовал ей и причащению, но совершенно не было желания изливать свою душу перед незнакомым человеком. Даже перед таким доброжелательным, как отец Ануфрий.
«Идиотизм какой-то, – думал я, – перед каким-то монахом нужно каяться в грехах, просить о прощении. Смех, да и только! Как будто у него своих грехов нет. Посредник, ха! Так я и перед любым могу покаяться. Какая в принципе разница? Выпил вина, поел хлеба да и поговорил „по душам“ – вот тебе и причастился. Ерунда, какая-то. Раскаяние показное получается, а оно должно быть в себе, только тогда оно искреннее. И потом, если у меня такое отношение к исповеди, то готов ли я вообще к постригу? Хотя отец Окимий прав, времени мало».
Выехали мы с Герасимом с утра пораньше. Он вызвался доставить меня в монастырь, да заодно навестить Глашу, отвести ей кое-что из припасов на прокорм своего обалдуя, как он любя называл сына, у которого скоро начнётся последний выпускной учебный год в монастырской школе. За время моей ссылки мальчик стал уже вполне взрослым парнем. Из послушного двенадцатилетнего пацанёнка вырос в крепкого пятнадцатилетнего парня, очень похожего на отца и уже заглядывающегося на Аню, дочку Глаши, как сетовал Герасим. Я видел девочку только один раз, когда она чуть не погибла в склепах, и чудом осталась в живых.
– А что Герасим, как Митрий? Ему последний год в школе, и куда потом?
– Куда, куда, – проворчал Герасим, видимо, я задел его больное место, – на Кудыкину гору.
Я помолчал, но любопытство разбирало меня. Вот скажите, куда податься пятнадцатилетнему парню, закончившему монастырскую школу, если у него не лежит душа к жизни монаха? А судя по тому, что я знал, у Митрия очень даже не лежит душа: как, смеясь, рассказывала Люсенька, ни одна уже поселенка-мать прибегала к Герасиму жаловаться на Митрия, который зацеловал всех девчонок в округе. Но девчонки девчонками, а парню дальше учиться надо.
– Ему бы дальше учится. Он же мечтал астрофизиком или доктором стать?
– Астрофизиком, – хмыкнул Герасим, – куда учиться-то? В университет Наукограда после десятилетки и испытания берут. Да и программа должна быть обычная как в элизиях, а не церковно-монастырская. После нашей школы только в семинарию или там, в Богословский университет. Но разве Митря пойдёт? Эх! – Герасим недовольно покрутил головой.
– Жалко парня, башковитый, – вздохнул я.
Герасим искоса глянул на меня и взмахнул кнутом:
– Ну, пошла шалава, еле топчешься!
Телега дёрнулась, и мы быстро покатили со склона.
* * *
Успели к началу литургии. На этот раз я полностью отстоял службу. Была пятница, и народу в храме собралось значительно меньше, чем в выходной день. И всё равно храм был полон. Громкое пение людей и монахов, возгласы молящихся, духота, запах свечей и человеческих тел, более чем двухчасовое стояние на одном месте почти не двигаясь, переносились мною тяжело. Я с ужасом думал, как же я посвящу этому жизнь, когда с трудом могу отстоять даже службу? Я делился своими опасениями с отцом Окимием, но он обнадёжил меня тем, что в монастыре не только участие в богослужениях считается необходимым послушанием монаха, но и неотлагательные дела, к которым вполне можно отнести и нашу работу в обсерватории. Хотя, конечно, во время больших праздников посещение богослужения в храмах обязательно, и что со временем я втянусь в нужный ритм. Это несколько обнадёжило меня.
Наконец, служба закончена, и люди выстроились в очереди к священникам, чтобы исповедаться и причастится. Я решил дождаться своего времени на воздухе. Осторожно, стараясь не привлекать внимания, попятился к выходу, тихо приоткрыл плотно закрытые створки