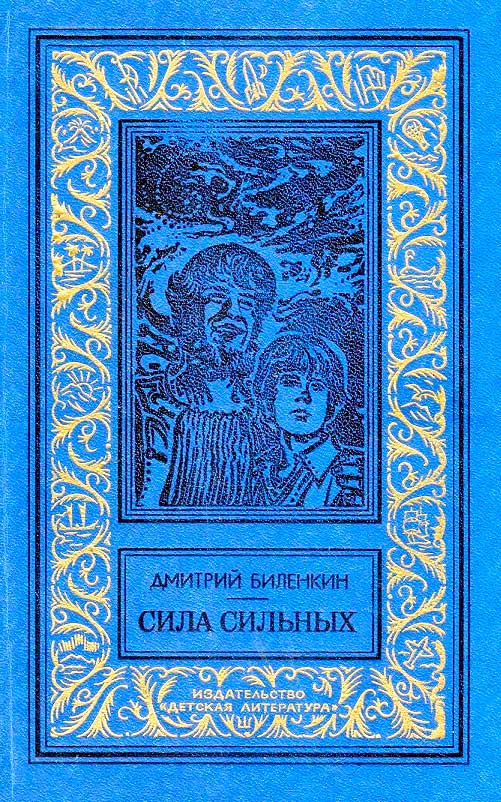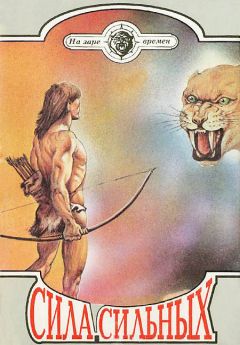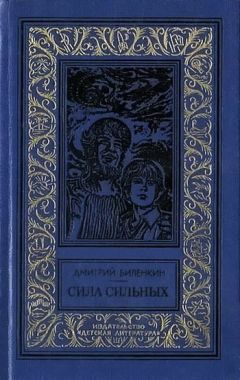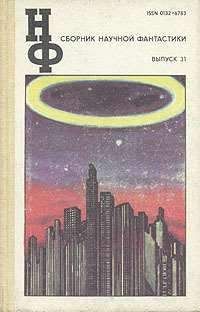выпуклым лбом, к голубым, уже чуть блеклым глазам стянулись морщинки — и не ученый вовсе, сидит под сереньким небом старичок, тот самый, из легенд, благостный пустынник, к руке которого сходятся звери, слетаются небесные птицы…
"Вот так все возвращается на круги своя, — мельком подумал Рябцев. Это ты брось, — осадил он себя. — Выдумки твой пустынник. Просто время такое, что легенды и сказки сбываются. Они и должны сбываться, мечта и фантазия как-никак завязь дела, чему удивляться? Деды до ковра-самолета, сиречь до реактивного лайнера, дожили, а я вот сейчас с волком пообщаюсь, напишу об этом, и мир тихо ахнет… Нет, не ахнет, в том-то и дело, что не ахнет. Обрадуется, поудивляется, но в общем примет за должное, ибо с осуществлением фантазий все уже давно свыклись. Вот если бы они перестали осуществляться, тогда поразились бы. Нарушение закона, все равно что масса вдруг перестала бы переходить в энергию! А так… Ну ясно же, что животные вроде волка как-то думают, об этом еще в девятнадцатом веке Энгельс писал. Значит, можно улавливать электромагнитную динамику биотоков, декодировать эту сложную (очень сложную, кто спорит!) путаницу, искать непонятным символам соответствие, переводить их в звуки нормальной речи. "И молвил волк человеческим голосом…" — через транслятор. Ну, наконец-то, скажет человечество, наконец наука осилила речевой контакт с животными; интересно, послушаем, что там у серого за душой…
И все-таки! Вот именно: все-таки…"
— Не посвистеть ли? — спросил Рябцев с улыбкой. — Что-то наш друг не торопится.
— Зато мы торопимся. — Телегин резко выпрямился, колюче взглянул на журналиста. — Он вам не песик! Верно, кругами ходит, присматривается, что за гость.
— Каков хозяин, таков и гость, — с ходу отпарировал озадаченный переменой тона Рябцев.
И тут же пожалел, что привычка не теряться перед словом взяла в нем верх.
Но и Телегина, казалось, смутила внезапная суровость собственных слов.
— Серый — мужик серьезный, — сказал он, словно оправдываясь.
— Вы о нем — как о человеке…
Телегин снова нахмурился.
— Ну, если вы так поняли мои слова — забудьте. Не стоит раскачивать древний маятник мысли.
— Маятник?
— Именно. Животных мы то уподобляли себе, то, наоборот, отвергали всякое с ними душевное сходство. В этой плоскости мысль маятником и ходила. А мир-то многомерен, значит, явление и истина о нем многомерны тоже.
"Теперь он со мной, как с маленьким, — раздосадованно подумал Рябцев. Вот тебе и благостный старичок! Пороховой кремень".
Они знали друг друга едва ли час, потому что, встретив Рябцева у границы заповедника, Телегин повел его прямо сюда и по дороге больше отмалчивался. Теперешнее обострение разговора было на руку журналисту, ибо ничто так не раскрывает собеседника, как противоречие его словам.
— То-то философ Энгельс, — сказал Рябцев не без ехидства, — оказался куда проницательней сонма специалистов, которые и столетие спустя отказывали животным во всяком умении мыслить!
Телегин слегка кивнул.
— "Ученые так близко подошли к храму науки, что не видят храма и ничего не видят, кроме кирпича, к которому пришелся их нос". Знаете, чьи это слова?
— Нет…
— Сказано Герценом. Метко сказано! Уперты носом… А что поделаешь! Я вот говорю с вами, а мысли о волке. Почему не объявляется? Ведь что бы я вам там ни говорил, а уверенность моя тает. Странно! Как всякий зверь, он существо любопытное, к тому же вчера я не ответил на пару его вопросиков. Подзадорил: мол, завтра придет знаток, вы… то есть, уж он-то все объяснит.
— Ничего себе! — Рябцев фыркнул. — Не журналист, значит, интервьюирует волка, а волк — журналиста! Край света… А если я не смогу ответить? Вопросы-то хоть какие?
— Да простенькие, какие еще могут быть у волка? — Телегин усмехнулся. Когда и чем люди дерутся за самку…
— Что-о?!
— Вы разве не слышали о "брачных боях", "позе покорности"?
— Слышал, знаю…
— Тогда что же вас удивляет? Для волка это весьма существенный момент жизни, вот его и интересует, как это бывает у людей.
— О господи!
— То-то, — удовлетворенно сказал Телегин. — А вы, похоже, думали, что беседа с волком — так, забава, игра в одни ворота?
— Сдаюсь! — Рябцев рассмеялся. — М-да, все становится сверхинтересным…
— Если бы только интересным… Себя мы всегда видели в своих зеркалах, в чужом — ни разу. Я не из упрямства так долго отказывался оповещать всех о наших работах. Сначала надо было кое в чем убедиться.
— Например?
— А если бы из глубин конкретной индивидуальности на нас глянула родовая ненависть? Ведь сколько и как мы их истребляли!
— Ненависть заслуженная, мы бы ее пережили. Во имя истины, будущей дружбы…
— Может быть, еще и братской любви? Во имя мечты, так сказать… Телегин вздохнул. — Мы опять скатились на плоскость. Любовь — ненависть… Да уляжется волк подле ягненка… Оставим это. А что, если бы на нас глянуло презрение?
— Презрение?!
— А, уже больней! Да, презрение. Презрение слабого к сильному, который после всего былого ищет еще и дружбы.
— Вы шутите! Было столько примеров дружбы человека с…
— Конкретное науку интересует только как подход к общему. Впрочем, успокойтесь. Все сказанное лишь дань необходимому скептицизму. У природы свои законы: кто сильнее, тот и одолел, все естественно, никаких претензий быть не может. А кто не вредит, тот либо безразличен, либо хорош… часто в качестве пищи. И никаких вам гамлетовских терзаний и прочей достоевщины. Так что можете спокойно глядеть волку в глаза.
— Не премину.
— Только, пожалуйста, не в упор. Животные этого не любят, а я как-то не горю желанием возиться с оказанием первой помощи.
— Ах, даже так! Что ж, спасибо за своевременное предупреждение.
— Вот уже и пошутить нельзя… Кстати, мы, люди, тоже почему-то не любим, когда нас разглядывают в упор. И в вас я этой манеры не заметил, а то