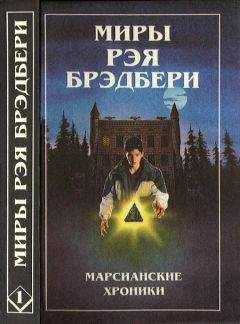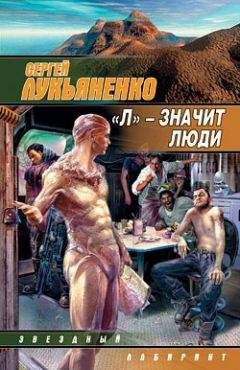— Я отправляюсь на Хэннегенскую набережную есть рыбную солянку, — сказал Уильям. — И закажу оркестру, пускай сыграют "Над заливом сияет луна". Пойдем, Кора, пойдем…
Его протянутая рука звала.
Кора во все глаза глядела на его кроткое, вопрошающее лицо.
— Прощай, — сказал Уильям.
Тихонько, тихонько он помахал рукой. И вот зияет пустой люк — ни лица, ни соломенной шляпы.
— Уильям! — пронзительно крикнула Кора.
На чердаке темно и тихо.
С криком она кинулась за стулом, кряхтя, взобралась в эту затхлую темень, поспешно посветила фонариком по углам.
— Уильям! Уильям!
Темно и пусто. Весь дом сотрясается под ударами зимнего ветра.
И тут она увидела: в дальнем конце чердака, выходящем на запад, приотворено окошко.
Спотыкаясь, она побрела туда. Помешкала, затаив дыхание. Потом медленно отворила окошко. Снаружи к нему приставлена была лесенка, другим концом она упиралась в крышу веранды.
Кора отпрянула.
За распахнутым окном сверкали зеленой листвой яблони, стояли теплые июльские сумерки. С негромким треском разрывались хлопушки фейерверка. Издали доносился смех, веселые голоса. В воздухе вспыхивали праздничные ракеты — алые, белые, голубые, — рассыпались, гасли…
Она захлопнула окно, голова кружилась, она чуть не упала.
— Уильям!
Позади, через отверстие люка в полу, сочился снизу холодный зимний свет. Кора нагнулась — снег, шурша, лизал стекла там, внизу, в холодном ноябрьском мире, где ей суждено провести еще тридцать лет.
Она больше не подошла к тому окошку. Она сидела одна в темноте и вдыхала единственный запах, который здесь, на чердаке, оставался свежим и сильным. Он не рассеивался, он медлил в воздухе, точно вздох покоя и довольства. Она вдохнула его всей грудью.
Давний, так хорошо знакомый, незабвенный запах сарсапарели.
Печатается по изд.: Брэдбери Р. Вино из одуванчиков: Запах сарсапарели. Пер с англ. — М.: Мир, Н.Галь, 1967. — Пер. изд.: Bradbury R. A Scent of Sarsaparilla: A Medicine for Melancoholy. Doubleday, N. Y., 1959.
К магазинчику было не протолкнуться.
Кроуэлл ввинтился в толпу; длинное лицо его оставалось таким же печальным, каким оно было всегда. Через худое плечо он посмотрел назад, буркнул что-то себе под нос и заработал локтями.
Он увидел, как ярдах в ста позади к тротуару, жужжа мотором, быстро подползла длинная, черная, блестящая машина-жук. Щелкнув, открылась дверца, и из машины с трудом вылез толстяк, на бледном сероватом лице которого застыло выражение злобы. Впереди сидело двое телохранителей.
"А вообще-то стоило ли убегать?" — подумал Кроуэлл, известный в своем кругу под прозвищем Плут. Ведь он устал. Не было больше сил выступать каждый вечер в программе новостей и каждое утро, просыпаясь, знать, что из-за какого-то упоминания вскользь о том, что в последнее время некий толстяк в "Пластикc инкорпорейтед" занимается темными делишками, за тобой по пятам ходят гангстеры. А теперь и сам толстяк объявился, собственной персоной. Притащился за ним из самой Пасадены.
Теперь наконец Кроуэлла со всех сторон окружала толпа. "Интересно, — подумал он, — отчего здесь столько народу? Необычное зрелище? Ну а что, вообще говоря, увидишь обычного в Южной Калифорнии?"
Он протиснулся вперед и уставился на большие алые буквы на окнах из голубого стекла; выражение его худого грустного лица не изменилось.
Слова на голубом стекле были такие:
ШТУКОВИНЫ ФИНТИФЛЮШКИ ПУСТЯКОВИНКИ БАРАХЛИНКИ ШТУЧКИ-ДРЮЧКИ ЧЕПУШИНКИ ЕРУНДОВИНЫ И ПР.
Кроуэлла это не удивило. Вот, значит, магазин, который имел в виду редактор, когда давал ему задание. Ерунда какая-то и чепуха.
Но тут он вспомнил про Стива Бишопа, толстяка, и про телохранителей с пистолетами. Когда в море шторм, любой порт хорош.
Кроуэлл достал из кармана небольшой блокнот, небрежно записал два-три названия — ерундовины, штучки-дрючки; все равно Бишопу в этой толпе его не подстрелить. Стрелять-то у Бишопа, по совести говоря, право есть: как-никак он, Плут, пугает Бишопа разоблачением — трехмерными цветными изображениями…
Кроуэлл боком пролез к полупрозрачной двери; будто водопад отгораживал посетителей от решенного в холодных — белом и голубом — тонах помещения. Кроуэллу стало немного зябко. Он сосчитал небольшие стеклянные шкафы (их оказалось семнадцать) и мертвенно-серыми, ничего не выражающими глазами начал рассматривать то, что в них стоит.
Из-за шкафчика голубого стекла появился вдруг лысый человечек, худой как скелет. Он был такой маленький, что Кроуэлл с трудом подавил в себе желание похлопать его по лысине. Казалось, эта лысина создана для того, чтобы по ней хлопать.
Квадратное лицо человечка было блекло-желтым, того особого оттенка желтизны, который приобретают выцветшие газеты.
— Слушаю вас, — сказал человечек.
— Привет, — негромко поздоровался Кроуэлл, раздумывая, что делать дальше. Теперь, когда он в магазине, что-то нужно говорить. — Я хотел бы купить… штуковину.
В голосе у Кроуэлла звучали те же грусть и усталость, какие были написаны на его лице.
— Великолепно, великолепно! — отозвался человечек и потер руки. — Не знаю почему, но по-настоящему заинтересовались вы первый. Другие просто стоят там, на улице снаружи и смеются. Так к делу: какого года штуковина вам нужна? И какой модели?
Ни того, ни другого Кроуэлл не знал. Он знал только, что испытывает замешательство, однако никто другой, глядя на его лицо, этого бы не заметил. Войдя, он сразу повел себя так, будто собаку съел на этих делах. И теперь признаваться в своем невежестве ему было совсем ни к чему. Он сделал вид, будто обдумывает ответ, и наконец сказал:
— Пожалуй, в самый раз подошла бы модель 1993 года. Не надо ничего сверхсовременного. Владелец магазина заморгал.
— Ага! Я вижу, вы человек, который знает, что ему нужно. Сюда, пожалуйста.
И, метнувшись в проход между шкафами, человечек остановился перед стеклом, за которымлежало что-то непонятное. Смахивало на кривошип, но одновременно напоминало кухонную полку; с металлического края свисало несколько сережек, и на том же краю были жестко закреплены три похожих на рога стержня и шесть диковинных механизмов, а наверху, из самой середины, торчал большой пучок чего-то, что более всего напоминало шнурки от ботинок.
Из горла Кроуэлла вырвался такой звук, будто он подавился пуговицей. Он посмотрел еще раз. Ну что тут скажешь? Только одно: малыш совсем ненормальный. Но об этом, пожалуй, лучше помалкивать.
Что же касается крохотного хозяина лавки, то он был, на вершине счастья: его глаза сияли, губы растянулись в самую приветливую улыбку, руки со сплетенными пальцами были прижаты к груди, и он стоял, наклонившись вперед, полный ожидания.