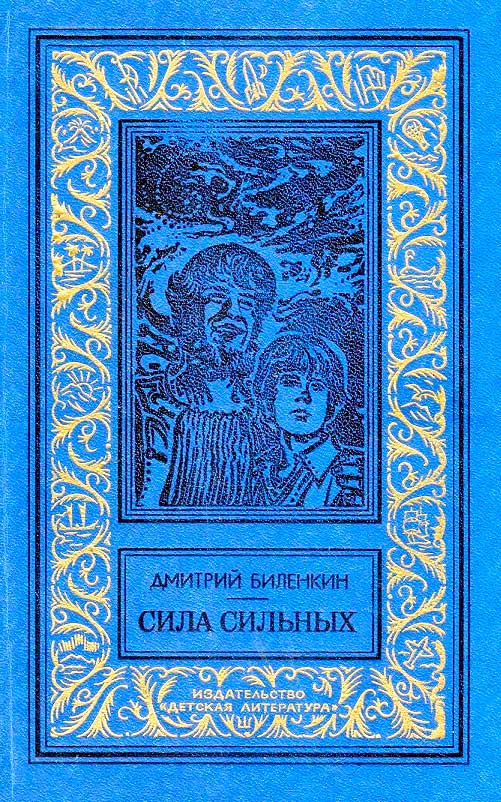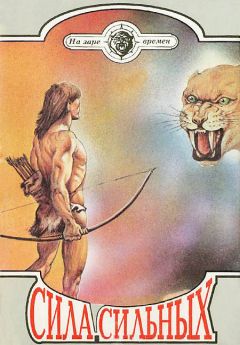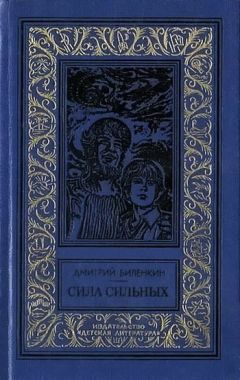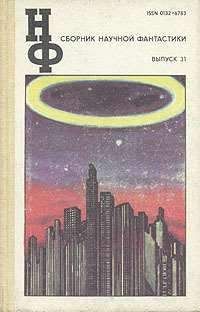лосихи не глядели на людей, словно их не было вовсе, и тем мрачней казалось это неотвратимое, отталкивающее свет движение огромного темного тела, над которым легко и зыбко реяли желтые листья. Один из них спланировал прямо на надетый, как ошейник, транслятор и повис на нем бесцельным украшением осени.
Люди не говорили ни слова. Той же поступью лосиха приблизилась вплотную, вытянула шею, точно намереваясь положить морду на подоконник, но не сделала этого, замерла на своих мосластых ногах-ходулях. И тут Рябцев вздрогнул — из недр транслятора грянул лишенный обычных интонаций голос:
— Человек, убей волка!
Плечо девушки прижалось к плечу Рябцева, и он почувствовал, как оно дрожит.
— Машка… — едва слышно проговорил Телегин. — Маша, ты что?
— Человек, убей волка!
— Маша, родная, почему?
— Волк убил моего лосенка. Человек, убей волка!
Транслятор рубил слова: "…убил… моего… лосенка…" И этот бесстрастный голос звучал в тишине вечера, как требование самой природы, которая вдруг обрела дар слова. "Убей… убей… человек, убей…"
— Маша, послушай…
— Ты говорил: человек — друг. Волк убил лосенка. Человек, убей волка!
Она наконец подняла голову, и на людей глянули влажные, черные от тоски глаза матери.
Лада бесшумно метнулась прочь, где-то гулко хлопнула дверь.
А голос не умолкал.
— Человек… друг… убей!..
Рябцев отступил на шаг, боком ударился о что-то.
— Хорошо, хорошо… — тяжело дыша, бормотал Телегин. — Ты подожди…
Неловко, будто заслоняясь, он запахнул окно. Все: и гаснущий в золоте вечер, и лосиха-мать, и заговорившая ее голосом природа, — оказалось отрезанным стеклянной преградой.
Телегин слепо нашарил стул, сел и лишь тогда повернул голову к Рябцеву.
— Получили свое? — спросил он без выражения. — Теперь разнесете по свету? Не препятствую, разносите.
— Но как же так? — осторожно, словно у постели больного, спросил Рябцев. — Что, что вы ей ответите?
— А что ей можно ответить? Что в природе для нас все равны, что и волк нам друг, а если бы и не был другом, так что бы это меняло? Ничего.
В охвативших комнату сумерках Рябцев плохо видел выражение лица Телегина, но, обостренное, оно сейчас показалось ему вырезанным из твердого сухого корневища — так бесстрастно прозвучало последнее слово.
— Ничего? — переспросил он растерянно.
— Ничего, — последовал ответ. — Природа ни жестока, ни благостна, она закономерна, и волки закономерно режут самых достижимых, то есть самых слабых, и тем оздоравливают тот же лосиный род. Но что Машке лекция? Ее детеныш был хилым, болезненным, заранее обреченным, но ей и этого не объяснишь, ничего не поймет. Ни-че-го. Никогда. И не надо: она — мать.
— Так вы с самого начала ждали… Все это время…
— Естественно. Только человеку дано познать закон рода, многое предвидеть в судьбе, это наша сила или, если хотите, бремя. Бедная Лада! Телегин покачал головой. — Лосенок был ее любимцем.
— Но она же могла…
— Защитить и сберечь? Могла! — Телегин вскочил, слова прорвались в нем лавой. — Мы многое можем, даже замахнуться на закон природы можем! А долг исследователя? Идет эксперимент. С дикими, не домашними существами. Чтобы нас самих не смололи жернова еще неведомых нам законов природы, надо быть холодно зоркими, бесстрашными, как… как сама природа.
— И жестокими.
— Бросьте, — устало отмахнулся Телегин. — Вы или не понимаете, или не хотите понять, что еще хуже. Во что вы лезете со своим гуманизмом? Одной жертвой больше, одной меньше, волны отбора перекатывают песчинки жизни, кто их считает… Машка все скоро забудет, на то она и лосиха, мы же сегодня узнали кое-что новое.
— Нет, это вы меня не поняли или не хотите понять. Опыт жесток к вам! Экспериментатор влияет на объект, ха!.. А наоборот, не больше ли? Лосиха-то, может, завтра забудет, а Лада… Мы в ответе за всех, кого приручили, не так ли?
Телегин ничего не ответил. В темноте было слышно, как он шарит по ящикам стола. Щелкнула зажигалка, язычок пламени, осветив лицо, коснулся кончика сигареты.
— Мерзость и яд, — пыхнув дымом, проговорил Телегин. — Но в иные минуты эта дрянная привычка человечества…
— Зря, — тихо сказал Рябцев. — Это не поможет.
— Верно. — Телегин поспешно затушил окурок. — А знаете что? Волк-то… Теперь понятно, почему он не пришел.
— Думаете, совесть?
— Какая там совесть… А впрочем, не все же началось с человека…
Рябцев вышел.
В проклюнувшемся звездами сумраке он не сразу различил двоих. Но смутное пятно, которое он сначала принял за белеющий ствол березы, слабо шевельнулось, и он понял, что это Лада. Она то ли обнимала лосиху, то ли взгляд просто не мог разделить их слитную тень, только обе стояли молча, и, может быть, это молчание было полнее любого разговора.
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Город и волк
⠀⠀ ⠀⠀
С бархатным протяжным гудением трансвей причалил к платформе. Длинное тело многосекционного вагона замерло. Волк перемахнул через борт ограждения. Когти чиркнули по сибролитовому покрытию, и Волка развернуло, чего он никак не ожидал.
— Надо сходить, как все люди! — укоризненно сказал прохожий, которому он ткнулся в ноги.
В три прыжка Волк пересек платформу и стремительной серой молнией скатился по лестнице.
Солнце клонилось к вечеру и светило сквозь ванты верхнего яруса, точно в бамбуковом лесу. Нахлынуло столько запахов, что Волк остановился.
Потом, наклонив голову, он размашисто побежал по дорожке, неприятно гладкой и до отвращения прямой.
Город был справа и слева, впереди и сзади, вверху и внизу. Взгляд Волка скользил по массивным, как скалы, или, наоборот, ажурным, точно деревья, конструкциям, путанице