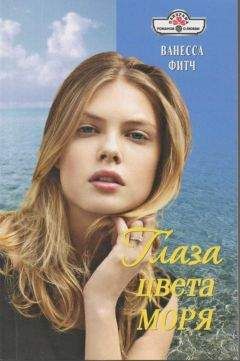За воротами на мощенной каменными плитами, стиснутой глухими кирпичной кладки стенами улочке приплясывали оседланные кони, позвякивала отделанная золотом и серебром сбруя. Чуть поодаль стояла карета, в которой приехали Симмонсы.
Мухаммадрахимхан кивком указал им на карету. Двое слуг подвели ему жеребца, один поддержал стремя, и хан с неожиданной легкостью вскинул в седло свое грузное тело. В то же мгновенье оглушительно затрубили карнаи, залились одновременно десятки сурнаев, грянули дойры, и кавалькада тронулась под мелодию «хан гяльды» — своеобразного выходного марша хивинских правителей. Вокруг загарцевали на конях нукеры дворцовой охраны.
Усаживаясь в карету, Симмонс заметил, как первая группа нукеров тронулась с места и возглавила прэцессию. Вторая группа горячила коней позади кареты. Только теперь Симмонс увидел музыкантов: продолжая изо всех сил дуть в свои инструменты, они торопливо выбегали из боковой двери дворца и усаживались на лошадей.
— Вот уж никогда не думала, что когда-нибудь Суду участвовать в таком шествии! — звонко расхохоталась Эльсинора, расправляя подол пышного белого платья.
Кортеж прокатился по улицам Хивы, под куполообразными сводами Ата-дарвазы, где еще совсем недавно оживленно торговали рабами, мимо ремесленных рядов в сторону Хазарасп-дарвазы. Застигнутые врасплох горожане падали ниц и оставались лежать до тех пор, Пока кортеж не проехал мимо. Того, кто осмеливался поднять голову, нукеры хлестали плетьми.
Возле Хазараси-дарвазы музыканты отстали, а кортеж проследовал дальше по пыльной обрамленной тутовыми деревцами дороге.
В Чодре гостей разместили на верхней площадке четырехэтажной глинобитной башни, каждый ярус которой представлял собою айван, обращенный открытой стороной в определенную сторону света. С этажа на этаж вели крутые, почти вертикальные деревянные лестницы без перил. С непривычки подниматься по ним было довольно затруднительно, хотя слуги сновали по ним вверх и вниз с поистине обезьяньей ловкостью, тем более удивительной, что руки у них были заняты дастарханами, умывальными принадлежностями, блюдами с виноградом, фруктами, всевозможными лакомствами.
От нечего делать супруги отправились прогуляться по саду. Он был великолепно ухожен — огромный фруктовый сад, где урюк и абрикос уживались рядом с айвой и вишней, слива соседствовала с молодыми деревцами граната, а вдоль уходящего вдаль глиняного дувала чередовались огромные деревья японского тутовника и аннап-джиды. Мутная, тепловатая на ощупь вода, еле слышно журча, струилась по арычкам, в густо разросшейся под деревьями, люцерне жужжали пчелы, пряно пахло инжиром, виноградными листьями и каким-то неведомым разнотравьем.
Единственная аллея, увитая виноградными лозами и посыпанная лимонно-желтым песком, вела от ворот к башне и хозяйственным пристройкам. Здесь под гюджумами, окружавшими небольшой хауз, прохаживались на привязах великолепные бойцовские бараны. Характерные горбоносые головы с круто закрученными рогами придавали им свирепый воинственный вид, а массивные, тяжелые курдюки дополняли картину, создавая впечатление грозной таранящей силы и мощи, что в общем вполне соответствовало действительности: разъяренный бойцовский баран мог с разбега ударом головы разнести в щепки толстенные дубовые ворота.
В дальнем конце аллеи скрипнула калитка и показался стройный худощавый юноша в легком летнем халате и традиционной папахе из серебристого каракуля. Он шел по аллее непринужденной танцующей походкой, помахивая небольшим узелком, напевая какой-то веселый мотив и прищелкивая в такт пальцами правой, свободной руки.
Симмонс всмотрелся в незнакомца и тронул Эльсинору за руку.
— Обрати внимание на этого человека, Люси.
У юноши были не по-азиатски светлые глаза на удлиненном, расширяющемся к вискам лице, аккуратно подбритые щегольские усики и курчавящаяся чуть рыжеватая бородка.
— Кто это? — негромко спросила Эльсинора.
— Менестрель.
— Кто-о?
— Ну, вагант, если хочешь.
— Перестань дурачиться!
— А я и не дурачусь! На хорезмский манер, конечно, но все-таки менестрель. И место в истории литературы ему обеспечено. Хочешь знать, как его зовут?
— Артюр Рембо!
— Не угадала, — рассмеялся Симмонс. — Хотя они современники. И даже в чем-то близки по духу.
— Тоже коммунар?
— Напрасно ехидничаешь. Он, возможно, и не слышал о Парижской Коммуне, но будь он там — наверняка пошел бы на баррикады.
— Ты сказал «возможно»?
— Я не оговорился. Парень достаточно хорошо образован и даже понимает по-русски.
— Вот как? — Эльсинора с интересом взглянула на юношу. Он был уже рядом и тоже с любопытством разглядывал их. — И как же его зовут?
— Меня зовут Аваз Отар-оглы, — ответил юноша за Симмонса. — Вы это хотели знать?
— Да, — кивнула Эльсинора, стараясь скрыть смущение. — А в узелке у вас, надо полагать, письменные принадлежности? Или, может быть, бомба для тирана?
— Ни то, ни другое, — рассмеялся Аваз. — Бритвенные принадлежности.
— Даже так? — удивилась она. — Забавно.
— Ничего забавного. Мой отец — цирюльник хивинского хана. Но сегодня отец приболел и мне пришлось его заменить.
— И хан, не моргнув глазом, подставит вам свою шею?
— Уже подставил, — усмехнулся юный брадобрей. — Откуда ему знать, что у меня в голове? А стригу и брею я не хуже отца. Увидите его величество, — убедитесь сами.
Симмонс, не вмешиваясь, молча наблюдал за их разговором. В одно из своих посещений Хивы первой четверти XX века он уже видел Аваза, и знал, какая страшная участь его ожидает. И теперь, глядя на его юное лицо, испытывал странное ощущение раздвоенности: рядом с веселым жизнерадостным юношей мерещился заросший клочьями неопрятной седой бороды изможденный старик с фанатично горящими глазами в рубище, которое было когда-то бязевыми штанами и рубахой, босой, прикованный цепями к огромному нарвану[56] на белом от январского снега загородном кладбище.
«Судьба… Рок… — подумал Симмонс с нарастающие ожесточением. — Какого черта! Ведь в конце концов это всего лишь слова! И все, наверное, можно изменить. Несправедливо, чтобы человек прошел через весь этот ад физических и духовных мук, униженный и оскорблений только за то, что по молодости лет писал бунтарские стихи!»
— Аваз, — негромко позвал он.
— Да, таксыр? — удивленно оглянулся юноша.
— Ты давно сочиняешь стихи?
— С тех пор, как себя помню, а что?..
— Скажи, что тебе дороже — стихи или… работа?