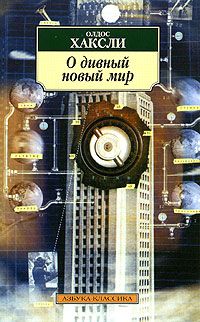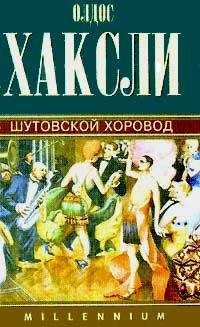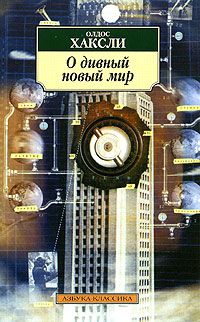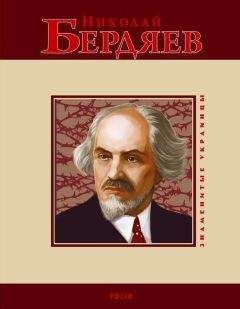— А вот изобрети мы только, — мистер Фостер взволнованно и таинственно понизил голос, — найди мы только способ сократить время взросления, и какая бы это была победа, какое благо для общества! Обратимся для сравнения к лошади.
Слушатели обратились мыслями к лошади. В шесть лет она уже взрослая. Слон взрослеет к десяти годам. А человек и к тринадцати еще не созрел сексуально; полностью же вырастает к двадцати. Отсюда, понятно, и этот продукт замедленного развития — человеческий разум.
— Но от эпсилонов, — весьма убедительно вел далее мысль мистер Фостер, — нам человеческий разум не требуется. Не требуется, стало быть, и не формируется. Но хотя мозг эпсилона кончает развитие в десятилетнем возрасте, тело эпсилона лишь к восемнадцати годам созревает для взрослой работы. Долгие потерянные годы непроизводительной незрелости. Если бы физическое развитие можно было ускорить, сделать таким же незамедленным, как, скажем, у коровы, — какая бы гигантская получилась экономическая выгода для общества!
— Гигантская! — шепотом воскликнули студенты, зараженные энтузиазмом мистера Фостера.
Он углубился в ученые детали: повел речь об анормальной координации эндокринных желез, вследствие которой люди и растут так медленно; ненормальность эту можно объяснить зародышевой мутацией. А можно ли устранить последствия этой мутации? Можно ли с помощью надлежащей методики вернуть каждый отдельный эпсилон зародыш к былой нормальной, как у собак и у коров, скорости развития? Вот в чем проблема. И ее уже чуть было не решили.
Пилкингтону удалось в Момбасе получить особи, половозрелые к четырем годам и вполне выросшие к шести с половиной. Триумф науки! Но в общественном аспекте бесполезный. Шестилетние мужчины и женщины слишком глупы — не справляются даже с работой эпсилонов. А метод Пилкингтона таков, что середины нет — либо все, либо ничего не получаешь, никакого сокращения сроков. В Момбасе продолжаются поиски золотой середины между взрослением в двадцать и взрослением в шесть лет. Но пока безуспешные. Мистер Фостер вздохнул и покачал головой.
Странствия в вишневом сумраке привели студентов к ленте 9, к 170-му метру. Начиная от этой точки, лента 9 была закрыта с боков и сверху; бутыли совершали дальше свой маршрут как бы в туннеле; лишь кое-где виднелись открытые промежутки в два-три метра длиной.
— Формирование любви к теплу, — сказал мистер Фостер — Горячие туннели чередуются с прохладными. Прохлада связана с дискомфортом в виде жестких рентгеновских лучей. К моменту раскупорки зародыши уже люто боятся холода. Им предназначено поселиться в тропиках или стать горнорабочими, прясть ацетатный шелк, плавить сталь. Телесная боязнь холода будет позже подкреплена воспитанием мозга. Мы приучаем их тело благоденствовать в тепле. А наши коллеги на верхних этажах внедрят любовь к теплу в их сознание, — заключил мистер Фостер.
— И в этом, — добавил назидательно Директор, — весь секрет счастья и добродетели: люби то, что тебе предначертано. Все воспитание тела и мозга как раз и имеет целью привить людям любовь к их неизбежной социальной судьбе.
В одном из межтуннельных промежутков действовала шприцем медицинская сестра — осторожно втыкала длинную тонкую иглу в студенистое содержимое очередной бутыли. Студенты и оба наставника с минуту понаблюдали за ней молча.
— Привет, Ленайна[20], — сказал мистер Фостер, когда она вынула, наконец, иглу и распрямилась.
Девушка, вздрогнув, обернулась. Даже в этой мгле, багрянившей ее глаза и кожу, видно было, что она необычайно хороша собой — как куколка.
— Генри! — Она блеснула на него алой улыбкой, коралловым ровным оскалом зубов.
— О-ча-ро-вательна, — заворковал Директор, ласково потрепал ее сзади, в ответ на что девушка и его подарила улыбкой, но весьма почтительной.
— Какие производишь инъекции? — спросил мистер Фостер сугубо уже деловым тоном.
— Да обычные уколы, от брюшного тифа и сонной болезни.
— Работников для тропической зоны начинаем колоть на 150-м метре, — объяснил мистер Фостер студентам, — когда у зародыша еще жабры. Иммунизируем рыбу против болезней будущего человека. — И, повернувшись опять к Ленайне, сказал ей. — Сегодня, как всегда, без десяти пять на крыше.
— Очаровательна, — бормотнул снова Директор, дал прощальный шлепочек и отошел, присоединившись к остальным.
У грядущего поколения химиков — у длинной вереницы бутылей на ленте 10 — формировалась стойкость к свинцу, каустической соде, смолам, хлору. На ленте 3 партия из двухсот пятидесяти зародышей, предназначенных в бортмеханики ракетопланов, как раз подошла к тысяча сотому метру. Специальный механизм безостановочно переворачивал эти бутыли.
— Чтобы усовершенствовать их чувство равновесия, — разъяснил мистер Фостер. — Работа их ждет сложная: производить ремонт на внешней обшивке ракеты во время полета непросто. При нормальном положении бутыли скорость кровотока мы снижаем, и в это время организм зародыша голодает; зато в момент, когда зародыш повернут вниз головой, мы удваиваем приток кровезаменителя. Они приучаются связывать перевернутое положение с отличным самочувствием, и счастливы они по-настоящему бывают в жизни лишь тогда, когда находятся вверх тормашками.
— А теперь, — продолжал мистер Фостер, — я хотел бы показать вам кое-какие весьма интересные приемы формовки интеллектуалов альфа-плюс. Сейчас пропускаем по ленте 5 большую их партию. Нет, не на нижнем ярусе, на среднем, — остановил он двух студентов, двинувшихся было вниз.
— Это в районе 900-го метра, — пояснил он. — Формовку интеллекта практически бесполезно начинать прежде, чем зародыш становится бесхвостым. Пойдемте.
Но Директор уже поглядел на часы.
— Без десяти минут три, — сказал он. — К сожалению, на интеллектуалов у нас не осталось времени. Нужно подняться в Питомник до того, как у детей кончится мертвый час.
Мистер Фостер огорчился.
— Тогда хоть на минуту заглянем в Зал раскупорки, — сказал он просяще.
— Согласен, — Директор снисходительно улыбнулся. — Но только на минуту.
Оставив мистера Фостера в Зале раскупорки, Директор и студенты вошли в ближайший лифт и поднялись на шестой этаж.
«МЛАДОПИТОМНИК. ЗАЛЫ НЕОПАВЛОВСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСОВ», — гласила доска при входе.
Директор открыл дверь. Они очутились в большом голом зале, очень светлом и солнечном: южная стена его была одно сплошное окно. Пять или шесть нянь в форменных брючных костюмах из белого вискозного полотна и в белых асептических, скрывающих волосы шапочках были заняты тем, что расставляли на полу цветы. Ставили в длинную линию большие вазы, переполненные пышными розами. Лепестки их были шелковисто гладки, словно щеки тысячного сонма ангелов — нежно-румяных индоевропейских херувимов, и лучезарно-чайных китайчат, и мексиканских смуглячков, и пурпурных от чрезмерного усердия небесных трубачей, и ангелов бледных как смерть, бледных мраморной надгробной белизною.