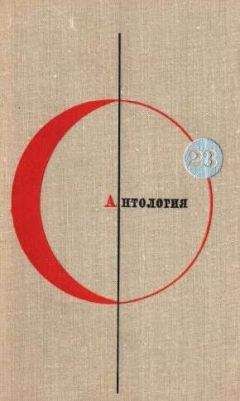Ах, в наш век ничто не делается безвозмездно и даже провидение за оказываемые услуги взимает гонорар.
На крыше соседнего дома пылал жаркий полдень, когда Оноре Туапрео проснулся. Все происшедшее вчера вспоминалось смутно: не то сон, не то в детстве слышанная сказка. Неодобрительно относясь к снам и сказкам (даже слышанным в детском возрасте), громадным усилием воли профессор восстановил происшествия вчерашнего дня вплоть до третьего бокала радужного аперитива. Дальше ищущая память профессора натыкалась на плотную и темную завесу. К двум часам профессор окончательно прекратил свои экскурсы в ушедший день, поднялся, оделся, освежил лицо и руки и задумался над тем, что из своего имущества реализовать на сегодня.
Выбор пал на парадные брюки. Профессор, задумавшись над бренностью всего живущего, подошел к гардеробу, открыл дверцу и не глядя пытался снять брюки с вешалки. Рука ловила только пустоту. В недоумении, профессор глянул в гардероб.
Он был пуст. Профессор растерялся. Нервно обыскал он всю комнату, выдвинул все ящики комода, отодвинул кровать и стулья, почему-то заглянул даже в рукомойник, — но всюду, так же как и в гардеробе, — было пусто.
С непривычки от аперитивов болит голова. Слегка поглаживая свой крутой и высокий лоб, профессор присел на стул.
— Да, несомненно, — это значит, что меня обокрали, — пришел он к печальному заключению.
Профессор! Профессор! Вы ошиблись, вы заблуждаетесь! Ну, какая это кража? Вы забыли о добром провидении, так заботливо доставившем вас домой сквозь суету и шумиху улиц, на которых вчера вы могли погибнуть трижды и четырежды! А вы говорите о воровстве! Ах, профессор, профессор, — вы совершенно не знакомы с экономикой века, вы совершенно не знаете жизненных законов нашего времени. Всякий труд должен быть оплачен, профессор, а доброе провидение немало потрудилось, пока вы смогли заплетающимся языком сообщить свой адрес. Пока оно, это заботливое провидение, подняло вас на ваш этаж и уложило в вашу постель. Вы несправедливы, профессор, вы заблуждаетесь, вы клевещете! Профессор, вы…
Но, впрочем, я должен просить у вас извинения, уважаемая читательница, или читатель, — я должен извиниться, и я извиняюсь. Дело в том, что я немного поторопился и забежал вперед: я еще не знаком с профессором Оноре Туапрео. Я его еще не знаю, не видел, а следовательно, и не мог сделать ему своего многословного замечания о воровстве, о провидении и о труде, который должен быть оплачен.
Уважаемые читатели, я, Жюлль Мэнн, скромный провинциал, попал в Париж и познакомился с великим ученым значительно позже истории с провидением, и вот при каких обстоятельствах.
Добрый гений, или, если вам угодно будет, благожелательное провидение, оказалось очень аккуратным и не оставило в комнате ученого ни одной вещицы, кроме того, что было на нем.
Ученый был огорчен, подавлен, убит. Именно теперь, когда к тому не было никаких возможностей — его одолевали всяческие, доселе неиспытанные желания. Он жаждал дорогих вин и яств, он мучительно тосковал по хорошей сигаре. Словом, Оноре Туапрео был одержим желаниями, осуществление которых было невозможно без наличия денег, денег и денег. Наконец, кроме всего этого, совершенно неосуществимого при настоящем положении вещей, Оноре Туапрео просто был голоден, хотел есть. Но даже и эта скромная потребность — была неосуществима.
Печальные и безрадостные мысли входили в голову ученого, как ветер в покинутый дом, окна и двери которого настежь. Печальные мысли рождали печальные выводы.
— Несомненно, совершенно несомненно, что я осел! Ах, какой я осел! К тому же — старый! Подумать только, — сколько энергии, сколько невозвратимых лет потратил я на какие-то дурацкие выкладки, на никому не нужные изыскания, на разработку проектов, гениальнейших проектов, за которые гонят из колледжа. Проектов, из-за которых я сперва остаюсь без завтрака, затем без ужина, обеда и вот, наконец, — без чего бы то ни было. Осел! Старый, глупый осел! Вот, броди теперь по улицам и голодными глазами заглядывай, как живут, понимаешь, живут другие. Пользуются жизнью, пользуются ее благами, стремятся к тому, чтобы возможно больше этих благ урвать, упиться ими досыта, до отвала… Ах, осел, осел, — безнадежный, непоправимый осел!
Подгоняемый своими безрадостными размышлениями, Оноре Туапрео дошел до Западного вокзала и уселся на скамеечке скверика. А мысли, неотвязные и горькие, не оставляли стареющий профессорский мозг. Они делали скачки, метали петли, рождали неожиданные выводы и, наконец, уперлись в определенное, твердое и заманчивое решение. Осознав это решение, профессор застыл на несколько минут, уподобившись соляному столбу, затем на поблекших щеках расцвели старческие розы румянца, глаза радостно и часто заморгали и профессор проделал несколько глотательных движений, чтобы избавиться от раздражающего избытка слюны. Принятое профессором решение основательно заполонило все существо ученого, собралось оформленной мыслью в мозгу, повисло на кончике языка, приподняло губы и Оноре Туапрео четко, громко и раздельно, а главное, безапелляционно и убедительно произнес:
— Я должен разбогатеть и я разбогатею!
Я подпрыгнул на скамейке от неожиданности, услышав свои собственные мысли, произнесенные так громко и с такой уверенностью. Я обернулся — и это было мое первое знакомство сученым Оноре Туапрео.
Передо мной сидел неряшливо одетый старик. Он упорно мотал головой и, словно стараясь вдолбить кому-то упрямому и непонятливому, повторял:
— Я буду богат! Буду!
Конечно, биологи и естествоиспытатели, да и вообще ученые — отрицают не только чудеса, но и самую возможность чуда[1], а я свидетельствую перед всем миром, что и в наш, сугубо материалистический век — чудеса не перевелись.
На моих глазах выпрямлялась согбенная спина Оноре Туапрео, для меня пока еще странного незнакомца.
Его глаза загорались молодым светом уверенности в победе, совсем как башня Эйфеля ситроеновскими транспарантами. Смейтесь, маловеры, но даже его костюм на моих глазах разгладился и принял опрятный, я бы даже сказал, элегантный вид. Чудо происходило на моих глазах.
Ах, я на минуту закрыл их. И соблазнительной тенью проплыла перед ними обольстительная мадемуазель Клэр де Снер. Нежным шелестом защекотали ухо заветные слова:
— Я твоя Жю, я твоя, — ведь ты принес к моим ногам чековую книжку и сердце!
Но прочь, обольстительное виденье!
Я поспешно открыл глаза. Г-н Туапрео решительно поднялся со скамьи и твердыми шагами направился к выходу из сквера.