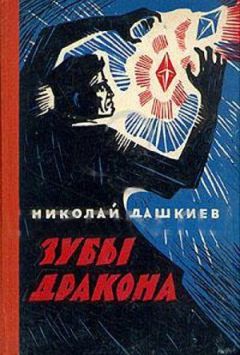— Иван, ты?
Сатиапал присел на кровать и взял ее тонкую, сухую руку.
— Иван, он не приехал?
— Приехал, дорогая.
Удивленный странным обращением больной к своему мужу, Лаптев лишь теперь обратил внимание, что разговор происходит на русском языке. Значит, жена индийского раджи — русская?!.. Так вот почему она пожелала видеть русского врача!
— Я приехал, госпожа. Сегодня я вас оперирую, а через две недели вы будете здоровы. Обещаю вам.
— Где вы?.. — больная ощупывала руками воздух, водила головой. — Я стала плохо видеть… То есть я ничего не вижу…
"Опухоль давит на зрительные центры… — подумал Лаптев. — А может быть, даже разрушила их".
Он взял больную за руку, профессиональным жестом нащупывая пульс. Сердце больной билось ускоренно и отрывисто. Плохи дела!
— Сколько вам лет, господин доктор?
— Тридцать пять.
— И вы… — она запнулась.
— Да, я сделал несколько подобных операций. Все они окончились удачно… Простите, мне необходимо вас осмотреть,
Осмотр подтвердил: состояние больной почти безнадежно. Вряд ли она выдержит длительную и тяжелую операцию. Больная, пожалуй, понимала это и сама.
— Я очень хотела бы еще хоть раз взглянуть на Россию… Только взглянуть… А тогда можно и умереть…
— Вы будете жить долго! — уверенно сказал Лаптев. — Я понимаю господина Сатиапала: он не мог вас оперировать, врач не должен волноваться. Но операция, в конце концов, несложная. Все будет хорошо.
Он тронул Сатиапала за рукав. Время идти; перед операцией хирургу следует отдохнуть.
Профессор понял и сделал знак, что останется здесь. Лаптев вышел из комнаты.
За дверью стояла Майя. Теперь доцент не сомневался, что она — дочь Сатиапала. Отец дал ей темные выразительные глаза, мать — чудесные русые волосы. Удивительное, своеобразное сочетание; красота, которая бросается в глаза и долго не забывается.
Девушка не спросила ничего, лишь брови взволнованно сошлись на переносице и взгляд стал умоляющим.
— Не знаю, — сказал Лаптев. — Шансов на успех очень мало.
Он прошел в отведенную для него комнату, лег. Но уснуть не удавалось.
Надежды на удачный исход почти нет. Лаптев обманул больную: он не делал таких операции и даже не слышал, чтобы этим мог похвастаться кто-либо другой. Однако в нем вспыхнуло неимоверное упрямство, всегда возникающее в минуты единоборства со смертью.
И только когда больную положили на операционный стол, доцента охватило сомнение в целесообразности затеянного.
Очень уж чужое, непривычное все вокруг. Раздражала нестандартность оборудования операционной, неудачное расположение люстры над столом. Беспокоила хирургическая сестра: она привыкла ассистировать Сатиапалу, и трудно надеяться, что молчаливый жест или даже взгляд другого хирурга прикажут ей сделать то или иное. И, наконец, самое тяжелое — присутствие в операционной посторонних.
Да, Сатиапал для Лаптева сейчас не хирург и не родственник больной, а нежелательный зритель, которого, к сожалению, невозможно попросить уйти. В белом халате, маске, шапочке, он стоит посреди комнаты, подняв вверх руки в стерильных перчатках, — будто капитулируя перед жестоким врагом или вымаливая у богов чуда. И хоть это — обычная поза хирурга перед операцией, она раздражает Лаптева: профессор Сатиапал, избежав борьбы за жизнь, теперь будет стоять над душой, как грозный и пристрастный судия.
"Не следовало браться за операцию при таких обстоятельствах и в таком настроении! — озабоченно думает доцент, и сам сознает, что думать так сейчас нельзя, ибо малейшая капля сомнения действует на мозг, как яд, расшатывает силу воли. Не нужно было браться… Но еще не поздно отказаться…"
Только нет — поздно! Хирургическая сестра склонилась над больной. Капля за каплей падает на марлевую маску эфир. А больная шепчет по-русски:
— …восемьдесят семь… восемьдесят восемь… Иван, сегодня первый день Азарха. Ты помнишь, Иван?.. — И снова однообразное: — восемьдесят девять… девяносто… девя… но… сто…
Все. Больная уснула. Ее губы зашевелились, и с них слетело еще одно, едва слышное, слово:
— Андрюша!
Лаптев вздрогнул; откуда она узнала, как его зовут? Ведь он никому в этом доме не сказал своего имени!.. Но задумываться некогда. Он сделал шаг вперед и протянул правую руку. То ли хирургическая сестра очень поспешила, то ли он сам не рассчитал расстояния, но стерильный пинцет выскользнул из пальцев и звякнул о кафельный пол.
— Ч-черт! — негромко выругался доцент.
Все было против него. Ассистентка не понимала его жестов, и ему приходилось в самые напряженные секунды распылять свое внимание, чтобы вспомнить название инструмента на чужом языке. Опухоль оказалась значительно большей, чем предполагалось, поэтому пришлось дополнительно расширить операционное поле. У больной внезапно остановилось сердце. Надо было приостанавливать операцию и заставлять снова работать усталое сердце.
Лаптев чувствовал, что делает все не так, как следует… Правда, руки машинально выполняли нужные движения, но исчезла удивительная чуткость пальцев, позволяющая вести линию разреза в нужном месте, не ошибаясь ни на миллиметр.
— Что вы делаете?! — застонал Сатиапал, подскочив к столу.
— На место! — крикнул Лаптев. — Сестра, зажим!
Из поврежденной артерии брызнула кровь. И это сразу отрезвило доцента. Он забыл обо всем на свете, кроме самого главного; теперь скальпель в его руках действовал уверенно и точно, отделяя поврежденные ткани от здоровых.
Но вот рука хирурга застыла в нерешительности. Он забрался в глубины человеческого мозга, — туда, куда еще не забирался никто. Теперь надежда на интуицию. Однако на нее можно полагаться, лишь имея возможность проверить правильность выбранного решения, а здесь за несколько секунд нужно проанализировать десятки вариантов, учесть неисчислимое количество обстоятельств.
Сатиапал нетерпеливо топтался на месте. Лаптев не смотрел в его сторону, но представлял, как наливаются злостью и ненавистью глаза профессора, неотрывно следящие за каждым движением руки Лаптева.
— Пустите! — не выдержал Сатиапал. — Уходите! Я сам!
— Не кричите! — Лаптев сделал еще несколько движений скальпелем и, повинуясь какому-то безотчетному чувству, отошел в сторону. — Прошу!
Теперь зрителем стал он.
Осталась самая тяжелая часть операции. И тут выяснилось, что Сатиапал действительно имел право гордиться собой: то, на что Лаптев потратил бы еще с полчаса, профессор закончил за несколько минут.
По молчаливому знаку Сатиапала сестра поспешно открыла большой никелированный бокс. Его доверху заполняли тампоны, пропитанные густой синей жидкостью. "Что он хочет делать?!" — ужаснулся Лаптев. Сестра брала тампоны длинными щипцами-корнцангом и подавала Сатиапалу. А он выдавливал жидкость из тампонов в рану, промывал и вытирал ее, густо присыпал каким-то красным порошком, — вообще, делал нечто невероятное и недопустимое.