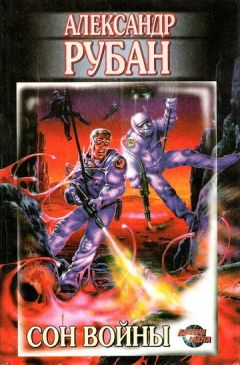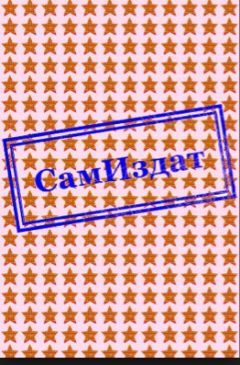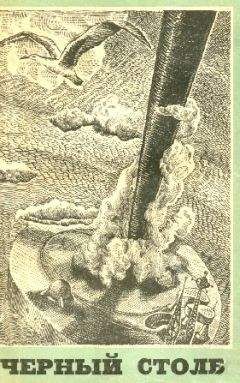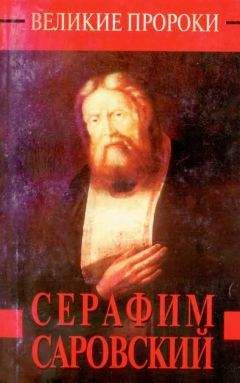Я обнаружил, что рассказываю Дашке и Мефодию о санатории на Ваче и, сомкнув пальцы на чаре, показываю им, как нужно душить волка — чтобы не насмерть, а только уснул. Дашка, жалостливо кивая, слушала, а Мефодий рассеянно возил пальцем по скатерти и ждал, когда я закончу.
— Вот так, — закончил я. И почему-то разозлился. — А ты в это время… Ведь это все из-за вас. «Делириум астрис».
— Я в это время с другими такими же дураками искал уран на крайнем западе долины Маринер, — сказал Мефодий. — Дядя Бен в это время сидел в палате для буйных. А Люська в это время, ни черта не понимая, закладывал меня господину Волконогову. В это же самое время бортовая Память «Луары» отчаянно противилась попыткам ООМовских умников стереть алгоритмы Молодцова-Смоллета. И громоздила такие блоки, что Люська до сих пор подбирает к ним ключики. Можно, конечно, поискать виноватых, только зачем?
— Незачем… — согласился я, помолчав. — Но чего добивается, например, господин Волконогов?
— Неужели неясно? Ему охота возродить великую и единую Русь, распространить ее на всю обитаемую Вселенную. Мне — то есть, теперь уже тебе — отводится роль вдохновляющего символа… Правда, спасибо Саргассе, нас будет очень трудно заменить: хоть какая-то гарантия личной безопасности.
— Глупо, — сказал я.
— Конечно, глупо. Потому что сначала, даже если он одолеет Тайный Приказ, господину Волконогову придется иметь дело с Графством, Воеводством и Небесной Провинцией. У его сиятельства, например, — дядя Бен это доподлинно выяснил, — всегда наготове парочка водяных бомб.
— Водородных? Откуда?
— Я сказал «водяных». Две беспилотных «блохи», по шесть кубометров талой воды в трюмах. Автопилоты нацелены на самые крупные проплешины Карбидной Пустоши.
— Он что, сумасшедший? Дюжина сот ведер — это пожар до неба! Даже коллоидный слой…
— Он предусмотрительный. Во время последнего мятежа капитан «Луары» двое суток держал палец на тумблере, открывающем все главные шлюзы. И не снял, пока зачинщиков не повязали… Водяные бомбы — тумблер его сиятельства.
— Этот — нажмет!
— Будем надеяться, что господин Волконогов тоже так думает. А что, тебя уже всерьез интересует политическая ситуация в долине? Морально готовишься взять бразды?
— Скоро вечер, Мефодий, — сказала Дашка напоминающим голосом. — Андрею Павловичу к боярам выходить, а ты о пустяках.
— Это он о пустяках, — возразил Мефодий. И, посмотрев на часы, опять возложил левую руку на устрицу. — Позови холопов, Дарья, пусть уберут. Мне нужен стол.
— Я сама, — сказала Дашка, вставая. — А то еще Савка вопрется — не выгонишь…
— Хоть три Савки! Даже если поймет, помешать не сумеет. И не захочет.
— Это не опасно? — спросил я. Мне почему-то вспомнилось, что Савке Бутикову «написано» истечь кровью.
— Не опасно только в ухе ковырять… — Мефодий усмехнулся. — И то, если умеючи. Зови холопов, Дарья. Ты полчаса провозишься, а они — мигом.
Савка вперся, и выгнать его не удалось. Он сидел на самом краешке кресла (но все же сидел, поскольку Мефодий велел ему сесть) и ныл с подобострастной укоризной в голосе, а нам приходилось слушать его смешновато-жутковатое нытье.
Нытье сводилось к тому, что негоже заниматься пустяками в такое время, когда весь дальнерусский народец до крайности обозлен и произволом опричнины, и засильем инородческих обычаев; что общественное мнение возбуждено до высокого градуса и что не сегодня завтра (удалые ребята лишь посвиста ждут) запылает Тайный Приказ, а Дом Губернского Собрания со прочие службишки будут блокированы, после чего, сметя забор усадьбы господина Волконогова, толпы-с верноподданных обложат Стену, испрашивая вольностей и призывая Рюрика на царство; и что от государя-де Мефодия Васильича всего-то и надо — отложить на малое время свою забаву и повторить отречение, пусть даже теми самыми словами-с; а господин-де Волконогов нимало против них не возражает, униженно прося лишь об одном: о соблюдении формалитету-с, дабы светлый князь Андрей Павлович воцарился во всезаконии…
Мы с Дашкой, слушая нытье, сидели в своих креслах, чуть отодвинув их от стола, а Мефодий стоя колдовал над устрицей, которую он водрузил на середину пустой столешницы.
Точным круговым движением он взрезал упаковку по диаметру, отложил нож и, подцепив ногтями, снял верхнюю половинку вместе с пеной. Словно обнажил ядро гигантского ореха. Потом он занялся своими руками. Дважды облил их из фляжки, вымыл и тщательно обтер о комбинезон. Еще раз облив, сполоснул и потряс кистями в воздухе. Подняв руки, растопырил пальцы перед лицом и замер — как хирург перед операцией.
Савка продолжал ныть. Мы его не слушали.
Устрица была хороша. Не тем хороша, что красива (металлокварц, в отличие от кварца, не прозрачен, сероват и блекл, трудноуловимые узоры завитков скорее отталкивают, чем притягивают взгляд), а тем, что уникальна. Только на обращенной ко мне стороне верхней, обнаженной, половинки раковины я насчитал три завитка — и, кажется, из-под пены выглядывал краешек четвертого. То есть, мы услышим никак не меньше четырех песен. А то и все двенадцать, если завитки распределены равномерно…
Когда спирт на руках высох, Мефодий, не поворачиваясь к Савке, громко сказал:
— А теперь заткнись!
Савка вздохнул и заткнулся.
Мефодий осторожно охватил раковину левой ладонью, пальцем правой осторожно прикоснулся к одному из завитков, нажал и сделал несколько втирающих круговых движений.
Устрица запела и продолжала петь, когда он отвел палец. Песня была скорее необычной, чем приятной: аритмичный, скребущий визг — как ногтем по басовой струне гитары.
Не дожидаясь окончания песни, Мефодий разбудил еще один завиток скрежет дополнился тоненькой жалобной нотой с едва ощутимыми частотными модуляциями. Черти пилят кости грешника длинной тупой ножовкой, зубья которой неравномерно выломаны, а в это время ангельский хор оплакивает потерянную душу…
Третий завиток разразился бесконечной серией частых булькающих синкопов с коротким шипением после каждого. Ну, ясно: слезы Господа падают на раскаленную сковороду! Я с некоторым усилием подавил подступивший смешок. Судя по тому, как на меня посмотрела Дашка, правильно сделал.
И тут до меня дошла некая странность: Мефодий пробуждал уже четвертый завиток — а первый все еще звучал! То ли черти неутомимы, как черти, то ли они сменяют друг друга в процессе работы, а их ножовка дьявольски прочна. Если же серьезно, то мне никогда не приходилось слышать об устрице, способной петь так долго. Быть может, секрет в одновременности песен? Или в сухих пальцах?..