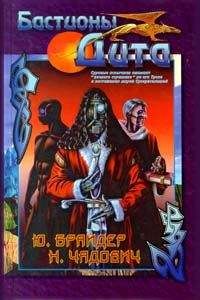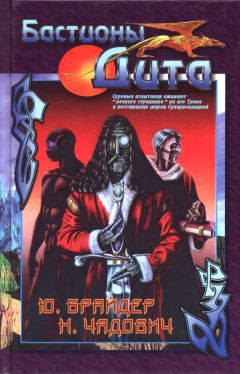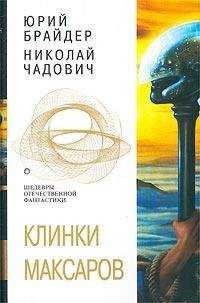Ирлеф отказалась и от вина, и от медовых лепешек, и от копченого мяса, лишь чуть-чуть пожевав какого-то овоща, похожего на морковку. После инцидента на Переправе она, наверное, не произнесла еще ни одного слова.
— Ты ведешь себя так, словно я тебя чем-то обидел. — Хлебнув зелейника, я отбросил ненужную флягу в сторону.
— Так оно и есть, — помолчав немного, ответила она. — Тебе не нужно было спасать меня. Зря все это…
— Но сейчас ты скачешь в Дит, чтобы предупредить горожан об опасности. Оставшись на свободе, ты получила возможность совершить благое дело.
— Что это может изменить для меня? Ведь я предательница. Там, у Переправы, я действительно могла умереть за тебя. Вопреки разуму, вопреки Заветам, вопреки всему… Прощения такому поступку быть не может.
— Не понимаю, что тут плохого, если один человек хочет умереть за другого. Неужели это противоречит Заветам?
— Не противоречит, если это делается на пользу Дита.
Но я тогда об этом совсем не думала. Я согласна была умереть за тебя даже во вред Диту. Тем более что тебе ничто не угрожало. Наоборот… я же видела, какими глазами ты смотрел на эту распутницу. Со мной случилась беда… Это даже не голод души. Это лихорадка, это падучая, это обморок. Меня обуяла злая болезнь, от которой одно лишь спасение — смерть.
Ирлеф и в самом деле колотило как в лихорадке, и я, смущенный этим неожиданным признанием, ласково коснулся рукой ее коротких мягких волос. Сдавленно вскрикнув, она отшатнулась.
— Нет! Не смей до меня дотрагиваться! Никогда-никогда! Твои руки не принесут мне покоя, а только усугубят страдания! Поверь, я искренне любила всех своих соплеменников от мала до велика, не делая различия между. Блюстителем и последним каменотесом. Когда они оступались, проявляли слабость или сознательно творили зло, я всегда назначала им справедливое наказание. При этом никто даже не пытался уговорить или разжалобить меня. Мне верили, как никому! Как я теперь посмотрю в глаза этим людям? Как смогу опять судить их? Любая потаскуха в золотых доспехах более достойна, чем я. Зачем ты меня спас? Телесные муки, которые я терпела в логове хозяйки Черного Камня, не идут ни в какое сравнение с муками души.
— Не знаю, чем тебе можно помочь. Любое мое слово обернется для тебя или ложью, или новой обидой. Если ты вопреки своим принципам действительно влюбилась, не стоит по этому поводу так расстраиваться. Любовь излечивается точно так же, как и болезнь.
— О-о! Не всякая болезнь излечима! — Она ударила кулаком по земле. — Случается, что вместе с перевертнями Сокрушение заносит в наш мир и их болезни. И тогда какая-нибудь совершенно безвредная для хозяев хворь выкашивает целые народы. А наш насморк, в свою очередь, за одну неделю выедает перевертням легкие. Нет ничего страшнее чужой непривычной болезни. Вы все знаете о любви, свыклись с ней, на себе испытали ее счастливые и злосчастные стороны. А для нас, никогда не ведавших настоящей любви, она хуже любого мора. Познав ее, дитс переступит через Заветы, отдаст любимой свой зелейник, станет выделять ее среди других соплеменников, захочет изменить ее жизнь к лучшему. Все это кончится крахом.
— Ты, как всегда, преувеличиваешь. Ведь болезни цепляются не к каждому. То же самое и с любовью. Кроме того, я еще никогда не слышал, чтобы из-за любви гибли города.
Сказав так, я вспомнил о Трое и сразу прикусил язык.
— Даже если я в конце концов уцелею в этой передряге, то останусь несчастной до конца своих дней. Я никогда не забуду твой голос и твои шаги, а значит, по десять раз на дню мне будет казаться, что ты вернулся. Ты станешь являться ко мне во сне, и я предпочту сон яви. Все вокруг сделается никчемным и скучным, а самой никчемной из никчемных буду я.
— Прости, что я невольно стал причиной твоего несчастья, — сказал я, вновь бессознательно коснувшись волос Ирлеф. — К сожалению, я не могу ответить на твое чувство взаимностью. Это было бы нечестно. Срок моего пребывания в этом мире отмерен силами столь же могучими и древними, как земля и небо. Да и если признаться, я просто боюсь любви. Это, наверное, единственное, что может помешать мне. В итоге, кроме горя, любовь ничего не приносила ни мне, ни тем, кто меня любил.
Ирлеф ничего не ответила, а только едва слышно застонала.
Я никогда не владел силой внушения, но сейчас то ли мне действительно очень хотелось облегчить ее душевные муки, то ли сказывалось незримое присутствие живоглота, но после первых же моих слов: «Спи, тебе надо отдохнуть», — она послушно смежила веки. Я осторожно уложил ее на траву, сунул под голову полупустую переметную суму, а сам через просветы в кустарнике принялся наблюдать за дорогой.
В последний перед городом переход мы двинулись, когда вражеский авангард едва-едва замаячил на горизонте. Если даже в Дите еще ничего не знали о грозящей беде, хорошо отдохнувший скакун должен был дать нам выигрыш во времени, необходимый для подготовки к обороне.
Довольно скоро мне стало казаться, что пейзаж, открывающийся по обе стороны дороги, а особенно гряды холмов слева, я уже видел однажды. Впереди, и опять же слева, что-то горело — судя по количеству дыма, время от времени озаряемого снизу пламенем, очень сильно и на большой площади. Уж не Дит ли это занялся? Хотя чему там гореть, кроме камня?
Дорога понижалась, спускаясь в долину, и я увидел знакомую реку, исчезающую в зыбучих песках. Здесь сильно попахивало горелым, но как-то странно — не то резиной, не то мазутом, не то еще чем-то, не имеющим никакого отношения к дикой природе. Мы уже почти поравнялись с пожаром, до которого отсюда было не больше трех-четырех тысяч шагов, и теперь стало ясно, что горит Коралловый лес — прибежище слепышей. На обочине дороги кучкой стояли люди — несколько чернокожих с неизменными копьями в руках и всякая рвань, скорее всего прибившаяся к войску Замухрышки в Окаянном Краю. Завидев нас, они замахали руками, показывая, что дальше ехать нельзя.
— Не останавливайся! — крикнула Ирлеф, цепляясь за меня.
Я для вида придержал коня и, когда застава оказалась рядом, погнал его во весь опор. Краем глаза я еще успел заметить, как один из чернокожих заносит для броска копье (это какое надо здоровье иметь, чтобы метать подобную болванку!), и тут же тяжелый, коротко чмокнувший удар заставил жеребца перейти с размашистого карьера на странный заплетающийся шаг, да еще не столько вперед, сколько вбок. Коня все больше заносило крупом к правой стороне дороги, и он рухнул прежде, чем я успел освободиться от стремян. Вся банда довольно загомонила, поздравляя удачливого копейщика.
Я дергался изо всех сил, пытаясь вытащить придавленную ногу, и жеребец, словно поняв мое стремление, жалобно заржал и перевернулся на брюхо. Я вскочил, помогая встать Ирлеф, отделавшейся, кажется, только ушибами. Ублюдки, посмевшие поднять на нас оружие, уже приближались. Один из них, чья туповатая круглая харя, заросшая неряшливой бородой, напоминала мне морду самца-шимпанзе, уже стягивал с плеча бродильное ружье.