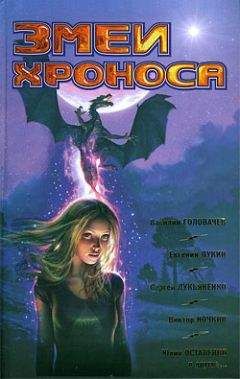«Устал, наверно, до чертиков, – подумал я. – Глухое дело. Все, казалось бы, ясно, и все совершенно безнадежно».
– Здравствуйте, – сказал я. – Не слышал, как вы вошли.
Учитель едва заметно повел головой, взял со стола чашку и отпил глоток.
– Ты не хочешь в школу? – спросила Ира, извлекая сына из-за моей спины.
– Нет, – твердо отозвался он.
– Лучше ему быть дома, – тусклым голосом проговорил Учитель. – Может понадобиться.
– Хорошо, – сдалась Ира. – Все равно, Игорек, пора тебе уже спать: одиннадцатый час. Тебя Галя искала уже три раза, – обратилась Ира ко мне. – Я сказала ей, что ты успокаиваешь Игоря.
– Да, – сказал я, – он успокоился.
– Галя ждет, не ложится, – продолжала Ира.
Она хотела меня выпроводить? Мне нужно было сказать ей несколько слов – так, чтобы не слышал Игорь. И чтобы – тем более – не услышал Учитель. Я не мог уйти. Впрочем, похоже было, что следователь и не собирался меня отпускать. Он отпил еще глоток и сказал:
– Матвей, идите сюда.
Ира обняла сына и скрылась с ним в его комнате, закрыв дверь. Я очень надеялся, что она уложит Игоря спать, и этим их сегодняшний контакт ограничится. Я очень наделся, что Ира вообще ничего не поняла в сложных взаимоотношениях отца и сына, и в том, что думал и что хотел сказать Игорь. И имя Инги не должно было упоминаться ни в их разговорах, ни в наших – ни в каких. Я прислушался, из детской не доносилось ни звука, Анна Наумовна, стоявшая рядом со мной, тяжело вздохнула и спросила так тихо, что я с трудом понял, что она хотела сказать:
– Тебе налить чаю, Матвей?
– Спасибо, Анна Наумовна, – сказал я. – Вы устали, ложитесь, пожалуйста, если что, я сам себе налью.
– Ты очень вежливый мальчик, Мотя, – улыбнулась она одними губами. – Скажи лучше: вы плохо выглядите, вам нужно принять лекарство и проверить давление.
– Давайте я вам померю…
– Спасибо, Мотя, я уже все сделала.
– Наверно, вам действительно лучше лечь, – невыразительным голосом произнес Учитель. – А мы с Матвеем еще поговорим немного. Мы будем говорить тихо и вас не побеспокоим.
Анна Наумовна скользнула по следователю взглядом, коснулась ладонью моей щеки (она часто так делала, когда я уходил, а иногда и когда приходил тоже – это стало ритуалом, я привык, а Учитель посмотрел удивленно и приподнял брови) и ушла к себе, оставив дверь чуть приоткрытой – то ли хотела слышать наши голоса, то ли боялась остаться одной в четырех стенах и ночной темноте.
Я прошел на кухню, налил себе чаю из начавшего уже остывать чайника, положил три ложки сахара, нарезал лимон, делал все медленно, говорить с Учителем мне не хотелось, я должен был сначала подумать о том, что услышал от Игоря, уточнить собственные выводы, нужно было подобрать такие слова, чтобы и от правды не слишком отклониться, и мальчика оградить от лишнего интереса полиции, и Ире не дать понять, что случилось на самом деле… на самом деле?
За несколько минут мне так и не удалось придумать ничего путного, и я вернулся с чашкой в гостиную, сел напротив Учителя, вертевшего в пальцах авторучку, и сказал:
– Наверно, вы ждете, чтобы я признался.
Следователь положил ручку на стол.
– Если вы признаетесь в том, что убили Гринберга, – сказал он все тем же тусклым голосом, – то я попрошу вас объяснить, как вы подменили ножи, и почему женщины и ребенок вашего признания не подтверждают, и куда вы дели орудие убийства, хотя из квартиры не выходили. Вы сможете это описать так, чтобы не было противоречий?
– Нет, – сказал я.
– Признание само по себе не является доказательством, – вздохнул Учитель. – Мне столько людей признавались… а потом дело разваливалось… Однажды даже до суда дошло, а там… Нет, я, знаете ли, давно перестал верить признаниям. Если человека припрешь к стенке, если ему некуда деться, потому что все ясно… пора ставить точку… тогда да, этой точкой становится признание обвиняемого. Я ясно выражаюсь?
– Куда яснее, – пробормотал я.
– Значит…
– Признания не будет. Я не убивал Алика. Ира тоже его не убивала. Анна Наумовна – подавно. Никто его не убивал.
Это было правдой. Никто Алика не убил – в нашей реальности.
– Вы не назвали сына, – напомнил следователь.
– Это как бы само собой понятно, разве нет?
– Странно, что вы употребили «как бы», – проговорил Учитель. – Это не из вашего обычного лексикона.
– Да? – Я попытался улыбнуться. – Вы успели изучить мой обычный лексикон?
Учитель скользнул по мне взглядом и уставился на свою уже пустую чашку. Я хотел было спросить, не налить ли ему еще чаю, но промолчал.
– Знаете, – сказал Учитель, – когда-то, до репатриации, я окончил психологический факультет Московского университета. Но чистая психология меня не очень привлекала, а распределения в вузах к тому времени уже отменили, и я записался на курсы переводчиков. Это было в конце восьмидесятых…
– Да? – вежливо сказал я. К чему он все это рассказывал? Решил отвлечь мое внимание? От чего?
– А потом, – продолжал следователь, – уже здесь, в Израиле, записался еще на курс журналистики, это был девяносто первый год… Вы приехали позже.
– В девяносто седьмом, – кивнул я.
– Вместе с Гринбергами?
– С разницей в несколько месяцев.
– Собственно, к чему это… Я хочу сказать, что научился разбираться… не столько, может, в деталях и уликах, сколько в характерах и словах, сказанных – и, довольно часто, в том, что не сказано. Понимаете?
Я молчал.
– Вот вы сказали «как бы». Мелочь, как будто, но ни вчера вечером, ни сегодня вы ни разу не вставили в свою речь слов-паразитов, я это заметил. Никаких «значит», «так сказать», этого новомодного «как бы»… Это не ваше. Значит…
– Ничего это не значит, – сердито сказал я.
– Значит, – продолжал Учитель, будто не слышал моей реплики, – вы имели в виду что-то конкретное, употребив это выражение. «Как бы само собой понятно». Не просто понятно, а как бы. Не на самом деле, а якобы.
– Послушайте, – сказал я, – к чему вы клоните?
– И еще, – так и не расслышал меня Учитель, – когда вы недавно разговаривали с ребенком в его комнате… Вы тихо говорили, да, но пару раз повышали голос, и я услышал такие слова: «Ты не должен об этом думать», «ты, только в другом мире»… И еще: «Ты ничего не сделал».
Как он мог это слышать? Я не повышал голоса, во всяком случае, не настолько, чтобы мои слова можно было услышать из гостиной, да еще сидя за этим столом на расстоянии двух метров от двери.
– У меня очень хороший слух, – заметив мое недоумение, сказал Учитель. – Вы не кричали, да, и здесь тоже было не очень тихо, но… Не верите? Хотите, отойдите в тот угол, повернитесь ко мне спиной и скажите что-нибудь – не шепотом, но и не громко, так, чтобы, по вашему мнению, я не смог бы услышать.