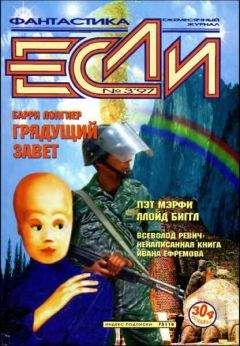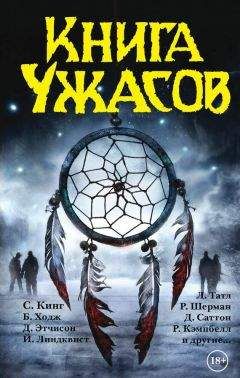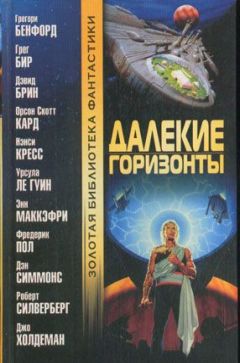о берега прогресса тяжело разобьются первые волны экологического кризиса, и человечество схватится за голову. Одна за другой появятся книги с отчаянными, как крик о помощи, заголовками: «Безмолвная весна», «До того, как умрет природа», «Для диких животных места нет»… Но Ефремов еще спокоен: «Океан — прозрачный, сияющий, не загрязняемый более отбросами, очищен от хищных акул, ядовитых рыб, моллюсков и опасных медуз, как очищена жизнь современного человека от злобы и страха прежних веков». Неясно, почему он взялся только за океан, почему бы не очистить заодно и сушу от гадюк
и москитов? Какое счастье, что у людей до сих пор не было такой возможности, а то бы и вправду «очистили», совершенно не отдавая себе отчета в непоправимых последствиях, к которым привело бы нарушение экологического баланса. На сегодняшний глаз, ефремовская планета слишком ухожена, словно парк в Версале. Изящно, конечно, но грустно, что на ней не осталось диких, манящих, неподстриженных уголков, а живого тигра, и то сбежавшего из заповедника, можно повстречать разве что на заброшенном острове Забвения.
Будем надеяться, что когда-нибудь человечество опомнится и постарается возродить первозданность нашей прекрасной планеты или хотя бы того, что от первозданности останется. Современные фантасты, конечно, спохватились, но просчет, допущенный Ефремовым, это не его личный недосмотр, экологическую угрозу проглядела вся мировая фантастика. Хотя если на проблему взглянуть пошире и выйти за пределы фантастики, то, может быть, со старушкой литературой дело обстоит не так уж скверно. Спасение природы зависит не только от законодательных или технических мер, но в первую очередь от успехов в воспитании гармонически развитой личности, для которой природа перестанет быть мастерской, а снова станет храмом, ведь без природы недолго продлится человеческое существование — человек умрет духовно. Но разве не эта мысль пронизывает огромное число произведений мировой литературы, разве в них уже давно не звучит постоянная нотка тревоги по поводу отрыва человека от взрастившей его среды, разве не они учат восхищаться этим эталоном красоты? Я бы расценил ефремовскую картину подметенной планеты, по которой можно пройти босиком, не поранив ног, как антиутопию-предупреждение, что бы об этом ни думал автор. Получилось даже сильнее оттого, что он, по российскому обыкновению, старался придумать как лучше, а получилось, как всегда, — не в дугу.
Со вторым расхождением я буду спорить еще непримиримее, потому что с природой, чего уж, — явное недомыслие, а тут автор защищает позиции продуманно, даже агрессивно. Речь идет о казарменном воспитании подрастающего поколения, начиная с «коллективизации» младенцев в грудном возрасте. Правда, еще не до конца перевелись бедняжки, не сумевшие справиться с материнским инстинктом. Общество, чуждое всякому насилию, не настаивает, для удовлетворения атавистических наклонностей выделена резервация — остров Матерей, бывший Ява. Но не кажется ли вам, что установленный порядок выглядит обыкновенной ссылкой? Что за преступление они совершили? Почему бы не разрешить им жить среди всех? Чтобы остальных мамаш не вводить в соблазн?
Уэллс был непреклонен: если будет подавлен природный инстинкт, если женщины (а почему только женщины?) будут лишены родительских радостей, то не испарится ли заодно и значительная часть того неуловимого, эфемерного состояния, которое называется человеческим счастьем. Зачем нам (нам!) такое общество, которое превращается в бесчеловечный сугубо функциональный механизм? Не случайно мы смотрим с сочувственной жалостью на ребят, которых судьба приговорила провести детство в детдоме.
Автор «Туманности…» напирает на то, как интересно и образцово будет поставлена работа по воспитанию и образованию молодого поколения. Что ж, среди его программ есть вполне здравые. В нашей школе и вправду мало романтики. Уж больно заунывна ежедневная обязанность: десять лет просидеть за одной партой, на одном месте, в одни и те же часы. Словно прикованные галерники. Нечто духоподъемное, подобное Двенадцати подвигам Геракла, дающее юношеству возможности испытать силы перед вступлением в жизнь, было бы неплохо придумать и сейчас. Разумеется, придумывать что-нибудь станет возможным тогда, когда образование станет более приоритетной общественной задачей, чем, например, приведение кого-либо к соблюдению конституционного порядка.
«Вы знаете, что туда, где труднее всего, охотнее стремится молодежь», — говорит у Ефремова местный начальник отдела кадров. Все-таки в «стройках коммунизма» была своя притягательность. Была. Я сам видел, с каким энтузиазмом строили Братскую ГЭС. А сейчас нам нечем увлечь молодых людей. Уверен, если бы можно было призвать их, допустим, к созданию космической станции, преступность и наркомания в стране резко бы упали.
В статье Уэллса есть принципиальная установка, о которой у Ефремова даже не упоминается, — религия. Соблазнительно дать этому расхождению беглое объяснение: непредставимо, чтобы советский писатель сохранил религиозные предрассудки при зрелом-то коммунизме. Да автора растерзали бы, несмотря ни на какие оттепели. Однако же религия в романе Ефремова есть, во всяком случае то место, которое ей отводил Уэллс, занято. Как известно, свято место пусто не бывает.
В уэллсовском проекте религия (разумеется, свободно избираемая) — это высокое озарение, духовное совершенство, которое цементирует общество. (Под религией вовсе не обязательно понимать соблюдение церковных ритуалов.)
Место религии у Ефремова занимает Наука. В его обществе это — почти божественное предначертание. Наукой на Земле занимаются чуть ли не все население планеты, перед наукой преклоняются, на нее смотрят как на панацею, ей приносят жертвы. Но, может быть, так и нужно: идти вперед, не оглядываясь. Трупы? Перешагнем! Правда, предполагается, что Бог должен быть всесильным, а вот наука, увы, не всесильна. «Гордые мечты человечества о безграничном познании природы привели к познанию границ познания, к бессилию науки постигнуть тайну бытия» (Н. Бердяев). Не следует ли пересмотреть слишком уж подобострастное отношение к науке? И если уж выбирать неперсонифицированного Бога, то пусть это будет возведенная на пьедестал Нравственность. Я уверен, что многие атеисты согласятся приносить такому богу молитвы и покаяние.
«Туманность Андромеды» могла бы занять более почетную полку в библиотеках планеты, если бы обладала более весомыми художественными достоинствами. Не случайно Стругацкие, высоко оценив в свое время роман, говорили о том, что стали писать свой «Полдень», потому что у Ефремова им не хватало живых людей…