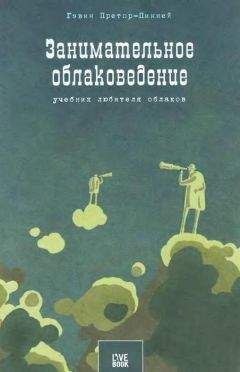Её сын уже не кряхтел от боли, глухо и безысходно, как прежде. Более того, он уснул. Она видела расслабленное лицо, закрытые глаза, и хотя некоторое время она не верила в это, материнским чутьём понимала, что это так. Она застыла, боясь каким–нибудь неосторожным движением разрушить это немыслимое достижение.
Женщина не пошевелилась и ничего не сказала, даже когда странный мальчик, подарив её сыну сон, поднялся, стряхивая с себя распавшуюся кору оцепенения, напоминая лунатика, с полуприкрытыми глазами пересёк комнату и рухнул на предложенную ранее кровать. Рухнул, как будто провалился сразу на самое дно беспробудного сна. Позже она лишь наклонилась к сыну, убедилась, что он спит. Ребёнок не мог заснуть по–настоящему уже несколько дней. Женщина поколебалась и осторожно приложила руку к его животу. Уверенности не было, но ей показалось, что опухоль уменьшилась. Не желая сглазить поспешной надеждой, она заставила себя отойти от сына и подождать до утра.
Ей можно было ложиться самой, в предыдущие ночи она, как и её ребенок, практически не спала, но сон не давался в объятия ещё долго. Лишь, когда тьма снаружи шевельнулась, испуганная идущим ещё где–то за пределами человеческого восприятия рассветом, женщина позволила себе лечь и вскоре погрузилась в озеро сна, в котором тревога, наконец, превратилась в ил, невидимый её острому материнскому глазу.
Она спала, когда её маленький гость проснулся. Дини подошёл к ребёнку, сопевшему с лёгкостью и непосредственностью годовалого младенца, приложил руку, убедился, что опухоль практически исчезла, и, обведя комнату взглядом, подхватил свою котомку и плащик.
После чего постоял ещё несколько минут, ощущая во рту нежный привкус пшеничной лепёшки, и покинул дом.
Уходя, он не заметил существо, свисавшее тёмным продолговатым комком на одной из ветвей ближайшего к дому дерева.
5
Дини вошёл в следующую деревушку не потому, что испытывал голод. В котомке ещё оставались лепёшки, к тому же, несмотря на утомительный переход, кушать почему–то не особо хотелось, только пить. И Дини, как щенок, припадал к каждому ручейку, пил до ощущения тяжести в животе, наполнял флягу и лишь затем шёл дальше.
Он сделал только одну остановку и теперь, в сердцевине вечера, рассчитывал получить ночлег. Но и это не являлось причиной.
Его тянуло в людское поселение, что–то смутное, мягкое, но при этом очень сильное, непреклонное. Это была часть его дороги, и он не мог пройти целое, избежав какой–то части.
Мальчик вспоминал случившееся прошедшей ночью, как сон, хотя и знал, что это вовсе не было сном. Он почти не размышлял об этом, лишь отстранённо, урывками. Казалось, он слишком устал, чтобы думать даже о том, о чём приятно думать. Событие просто было, и этого оказалось достаточно. Интуитивно он чувствовал, что не сможет себе ничего объяснить, если даже попытается, он сделал доброе дело, и некий анализ уже не нёс в себе насущной пользы.
И он снова полагался на интуицию. Отец как–то сказал, что в человеке есть всё, в каждом человеке. Каждый из нас способен сделать практически всё, просто люди не знают об этом. Нужно лишь прислушаться к себе. Прислушаться не к тому, что тебе говорит мозг, подёрнутый страхом, сотней различных желаний и некоей логикой, рождённой мнением окружающих тебя людей, совсем не к этому. Мозг — отличительная особенность человека, вознёсшая его, но мозг одновременно и его проклятие. Прислушаться надо к тому, что внутри, к сердцу.
Мальчик свернул к деревушке, не спрашивая себя, идёт ли он сюда, чтобы кого–нибудь вылечить. Не спрашивая, сколько будет таких людей или как быть, если он пройдёт всё селение, так никого не отыскав. Он просто шёл предназначенной дорогой.
У первых домов его нагнала летучая мышь. Она дважды спикировала, едва не задев крыльями плечо мальчика, и на время исчезла. Дини заставил себя успокоиться, всё–таки он знал, что это произойдёт. Если ничего изменить нельзя, лучше примириться, не терзать себя понапрасну.
Деревенька была укутана тишиной, некоторые дома уже пытались бороться с подступившими сумерками, испуская тусклый свет, рождённый зажжёнными свечами. Дини медленно шёл, созерцая домики. Изредка ему встречались люди, спешащие домой после дневных трудов, но никто из них не заговаривал с мальчиком. Нынче было немало бродяг разного возраста. Мальчик прошёл две трети деревеньки, прежде чем что–то почувствовал. К этому моменту он уже настраивался на ночлег в лесу, за деревней. Попроситься в чей–то дом, означало попросить и еды, но Дини это не устраивало. Он не был голоден, и не хотел ущемлять кого бы то ни было сейчас, без конкретной необходимости.
К этому моменту у него уже появилась, несмотря на все старания, червоточинка беспокойства. Мелькнула мысль, что случившееся в предыдущей деревне, являлось лишь единичным случаем, неким озарением, которое подобно чуду бывает раз в жизни. Но ведь теперь он так хотел помочь хотя бы кому–нибудь!
Откуда–то справа, из крохотной улочки, истекал колеблющийся свет. Кто–то держал зажжённый факел, возможно, несколько. Слышались приглушённые голоса, фыркнула лошадь.
Дини повернул в направлении этих звуков и шевелящихся отблесков скрытого пламени. Спустя минуту ему открылся дом, добротный относительно деревни в целом, лошадь, запряженная в подводу, и с десяток людей. Большинство из них стояли молча, неподвижно и казались бесплотными тенями. Лишь одна женщина глухо причитала и суетилась, бросаясь то к одному мужчине, замершему на крыльце, угрюмому, потухшему, то к другому, медленно и неумолимо идущему к подводе, рядом с которой стоял невысокий старик. Судя по добротной одежде, дорогому плащу, это был лекарь, вызванный в эту деревню. Мужчина, стоявший на крыльце, был мужем причитавшей женщины. Из нескольких реплик, которыми он обменялся с лекарем, из малопонятных обрывочных причитаний женщины Дини составил примерную картину происходящего.
Старший сын хозяев дома получил травму ноги, и, хотя местный знахарь за символическую плату ещё раньше наложил повязку, позволившую кости срастись, подростка подстерегла новая беда — заживающая рана загноилась. Они вызвали лекаря, хотя это и больно ударило по их семейному бюджету, но было поздно. Тот поставил свой диагноз, утверждая, что необходимо отнять конечность, чтобы парень вообще остался жив. Мать подростка, всё ещё не веря, что иных, кроме ампутации, вариантов нет, молила лекаря, сделать что–нибудь. Без ноги её сын будет мало отличаться от трупа.
Мужчина в одежде лекаря пытался игнорировать её, и женщину, в конце концов, пришлось сдерживать собственному мужу. Прежде чем сесть на повозку, лекарь остановился, оглянувшись на несчастную, как бы отдавая дань её горю. Его хмурое лицо отнюдь не несло печать безразличия, но и он ничего не мог изменить. Затем он забрался на повозку, и старик, державший лошадь за узду, вывел её со двора.