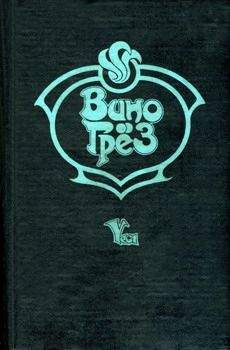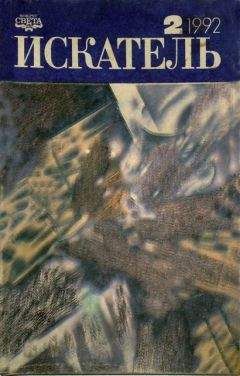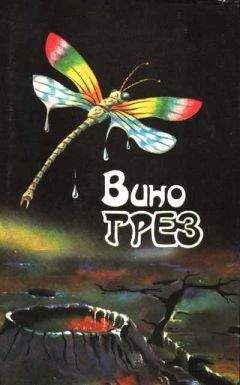Как только за генералом закрылась дверь, майор Либер затянул елейным голосом:
— Я понимаю, ребята, что вы считаете меня шипом в вашем боку. Не моя вина в том, что старик затолкал меня в ваше горло. Но, поверьте мне, я не буду становиться у вас на дороге. Томми Либер может быть по-настоящему уживчивым парнем. Хорошенькая встряска стаканчиком чего-нибудь покрепче да пара розовеньких ушек, в которые можно пошептать — вот и все, что ему нужно. Дважды в неделю я буду отправлять туманные доклады и мы все вместе счастливо заживем в горах.
На чересчур полных губах под темными, разрешенными воинским уставом, усами, появилась ленивая улыбка, но черные немигающие глаза под полуприкрытыми веками, придававшими майору сонный вид, оставались холодными и настороженными.
— Мы счастливы, что вы с нами, — без всякой сердечности произнес Бад.
Шэрэн поднялась и Либер тут же придвинулся к ней,
— А как вы, доктор Инли? Вы рады, что я в одной с вами команде?
— Конечно, — отсутствующе ответила она. — Бад, скоро мы отправимся назад?
— Лучше отправиться в полдень. Это даст нам время немного поспать.
В комнате остались только Бад и сержант. Сержант выжидательно посмотрел на Бада. Тот улыбнулся.
— Вы же знаете своего босса. Отредактируйте протокол так, чтобы он почувствовал себя счастливым, насколько позволят включенные в протокол условия, навязанные мной. Вы обработали условия?
— Да, сэр. Прочитать их вам?
— В этом нет надобности, — Бад двинулся к двери.
— Хм-м…, доктор Лэйн, — позвал сержант.
— Да? — обернулся Бад.
— Насчет майора Либера. Он очень умен, доктор. Он делает прекрасные успехи в армии. Я думаю, что недалеко то время, когда он станет генералом.
— Полагаю, это заслуженное стремление.
— Он любит производить… хорошее впечатление там, где больше всего считаются с впечатлением.
— Благодарю вас, сержант. Большое вам спасибо.
— Пожалуйста, доктор, — усмехнулся сержант.
В предназначенном ему номере офицерской гостиницы Бад улегся в постель и в ожидании сна невольно начал размышлять о дьяволе, который может, вторгшись в сознание против желания человека, использовать тело в качестве инструмента. Неужели древние были ближе к истине, чем мы, со всеми нашими измерениями, циферблатами и тестами по чернильным кляксам? Человечество не может спрятать теорию, заключающуюся в том, что в сознании имеется мера врожденной нестабильности, в том, что безумие может прийти с любым последующим вздохом. Теория дьяволов или бесов более удобна для объяснения внезапных припадков безумного разрушительства. «Может быть, — думал Бад, — мы эту планету с кем-то разделяем; всегда ее разделяли. Мы для других… вещи, которые они могут использовать в своих целях. Может быть, они незаметно проскальзывают в сознание человека и тешатся своими дьявольскими прихотями. А может быть, наведываются к нам с какой-нибудь далекой планеты, и для них это всего лишь яркий пикник, красочная экскурсия. И очень может быть, они смеются…»
Мир Рола Кинсона был ограничен стенами. Это был мир комнат, покатых поверхностей и коридоров.
Ничего другого в нем больше не было. Мысли не могли вырваться за пределы стен, за пределы самых дальних комнат. Рол пытался пробиться мыслями сквозь стены, но они не могли охватить идею небытия и поэтому свивались обратно, отраженные концепцией, находящейся за пределами возможностей его ума.
Когда ему было десять лет, он нашел в стене отверстие. Через это отверстие нельзя было пролезть, потому что оно было заделано каким-то странным материалом: смотреть через него можно было, как через воду, а на ощупь это вещество было твердым.
А грезить таким малолеткам, как он, еще не позволялось.
Грезить разрешалось только старшим; тем, кто достаточно вырос, чтобы иметь право участвовать в любовных играх.
В старинных микрофильмах и микрокнигах он нашел слово, обозначающее отверстие в стене. Окно. Рол много раз повторял это слово. Никто другой не читал микрокниг.
Никто другой не знал этого слова. Слово стало тайной, причем тайной драгоценной, потому что тайна была непридуманной. Слово существовало. Конечно, позднее он узнал, что в грезах встречается много окон. Их можно было трогать, смотреть через них, открывать. Но не своими собственными руками. В этом заключалось различие. В грезах приходилось пользоваться чужими руками, чужими телами.
Ему никогда не забыть тот день, когда он наткнулся на окно. Обычно другие дети обижали его. Ему никогда не нравились игры, в которые они играли. Они смеялись над ним, потому что он не был таким слабым, как они. Его игры, развивающие мышцы, причиняли им боль и вызывали слезы. В тот знаменательный день они пустили его поиграть в одну из их игр, старинную игру «танцующие статуи». Игру затеяли в одной из самых больших комнат на самом нижнем уровне. Длинная худая девочка держала в руках два белых брусочка, а остальные дети танцевали вокруг нее. Неожиданно девочка хлопнула брусочками друг о друга. По этому сигналу все остановились и замерли, словно превратились в статуи. Но Рол находился в неустойчивом положении и, когда попытался замереть, неловко грохнулся прямо на двух хилых мальчишек, которые, пронзительно завопив от боли, раздражения и гнева, свалились на пол. Но его гнев превзошел их гнев; прозрачный пол под ним засветился мягким янтарным светом.
— Ты не умеешь играть, Рол Кинсон. Ты — груб. Уходи, Рол. Мы не разрешаем тебе играть с нами.
— А я и сам не хочу с вами играть. Это глупая игра. Рол покинул детей и спустился в длинный коридор, проходивший через лабиринт помещений с энергетическими установками, где, казалось, вибрировал даже воздух. Ролу нравилось гулять здесь, так как это давало ему странное, но приятное ощущение. Теперь, конечно, он знал, что размещалось в этих помещениях, и знал название серого мягкого металла, из которого были сделаны стены коридора в энергетической зоне. «Свинец» — вот как он назывался. Но понимание того, что пронизывало энергетические помещения, никогда не уменьшало удовольствия, которое он испытывал, проходя через гудящее пространство, через вибрирующий на частотах за пределами слышимости воздух.
Уйдя тогда от детей и их игр, он бесцельно слонялся повсюду. Воспоминания о том дне отчетливо сохранились, хотя с тех пор прошло четырнадцать лет. Ему было скучно. Комнаты, в которых без конца звучала музыка, и музыка, которая звучала там с самого начала Времени и будет звучать всегда, больше не доставляла ему удовольствия. Взрослые, которых он встречал, не замечали его — это было в порядке вещей.