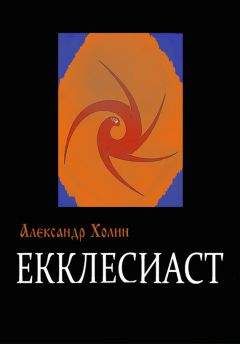Струйский поводит глазами, полковник сейчас для него — опасный предмет, источник боли, вроде капканной защелки.
Ильин устраивается поудобней и приступает к живописи.
— Картина первая, милостивый государь. Свидетельствуем мы вас в смысле умственной полноценности, и что же? Всплывает тут разное, вот и папаша ваш как он дни-то свои окончил? Как божий человек, верно? Оттого, может, и наследственность дурная. Да не сверкайте, не сверкайте взглядом-то, испепелите поди, а у меня тоже семья и дела государственные. Свидетельствуем вас и говорим тогда по совести: не виновен господин Струйский в деяниях своих, но дабы впредь социалисты умственным расстройством его не пользовались, излечить его следует. И на много лет, сударь мой, медицинским воздействиям подвергнетесь, опять же статейки в газетах — надо же, канальи эти, социалисты, к темной возне своей кого привлекают — Господом обиженных, потому в здравом уме верить им невозможно. Тем самым и нам на пользу послужите, устои монархии своим примером укрепите. А публика, узнав, чьи стишки иногда печатались, вздохнет, посмеется, да пожалуй, какой журналишко десяток-другой подписчиков утратит. Публика она дура, господин Струйский, сами небось понимаете…
Струйский оторопело слушает все это, а полковник, чувствуется, благодарен подследственному за безусловное внимание.
— И из-за чего, из-за каких идей муки вам принимать? А главное — из-за кого? Небось студентик с завихрениями или тем хуже — слесаришка, начитавшийся популярных брошюрок.
— А вы же поэт, Борис Иннокентьевич, — голос Ильина густеет от убедительности, — ей-богу, поэт. Недавно вот из записочки вашей, неудачно на волю переданной, стихи я своей Марии Карловне показывал, это супруга моя, дама, поверьте, тонкая в литературном вкусе, так в слезу ее вогнал, всплакнула она… Право же, поэзия…
И полковник Ильин голосом Володи Штейна (чем не сочетание!) зачитывает:
Быть может, мы и чудом уцелели,
но Бог спаси, коль голову пригнем.
Не жги себя изнутренним огнем
затлеет хворост поздних сожалений.
Сноп искорок спалит тебя в ночи
солома чувств воздушна и горюча.
Дым сожалений сладостно нас мучит,
но горестно огонь потерь кричит.
— Ей-богу, за душу берет, — едва ли не восторженно комментирует полковник. — И представьте, все это — как оно у писателей называется? огонь души и прочее, все это обратится в прах, будет осмеяно и забыто. И ради кого? Ради какого-то недоучки, который все едино попадется и вас продаст, и еще Серафиму Даниловну не пощадит, на нее гору напраслины наворочает. Обидно-с! А еще обидней, что господа социалисты про вас же подумают: дескать, как он каторги избежал? И решат — продал он нас и по-легкому сумасшедшим домом отделался. Да-с! И мы в таком случае никаких опровержений заявлять не станем, напротив, намекнем кое-где, что вы нам серьезные услуги оказали. Полная компрометация получится, верно?
— Это подлость, — удивительно спокойно говорит Струйский, — обычная подлость, и со временем она раскроется…
— Философствуете? — ухмыльнулся Ильин, впрочем не без приятности. — Что ж, не прочь и я с вами пофилософствовать. Со временем, говорите… Так ведь с каким временем? Жизнь — она одна, и коротка к тому же, ох, коротка. В истории кое-что, конечно, всплывает, иногда даже правда всплывает, но вам-то что с того? Ваша-то единственная жизнь покалечена, а таланты загублены. А от того, что в меня потом, через сто лет, стрелы метать станут — разве мне больно? Я за государственным интересом, как за каменной стеной и навеки за ней останусь. Сек бы я беспощадно философов, которые молодых людей с пути сбивают, ибо в их писаниях не настоящий человек выведен, коему богом шесть десятков лет отмерено и по пути соблазнов всяких разбросано сверх числа, не настоящий, а как бы ангельский, который живет сколь угодно долго и высокими идеалами каждый свой шаг правит…
Полковник Ильин передергивает плечами, словно противен ему этот философский гомункулус, живущий сообразно идеалам.
— Устал я с вами, — тоскливо говорит он. — Разоткровенничался, а вы? Ну да Бог рассудит, молчите. Хотел я было вторую картинку перед вами разыграть, поинтересней первой, да не стану, пусть она вам сюрпризом покажется. Как раз к Рождеству…
На этом все прерывается — нет кабинета с капканом, нет Струйского. Я сижу в кресле и сквозь наплывающую головную боль пытаюсь сообразить, в кого же я швырял мраморной птицей — в полковника или в голубого гнома. И мельтешат передо мной странные обрывки: каменная стена государственных интересов, о которую бессмысленно расшибается пепельница, краснобокий, уютно поблескивающий медными частями «Паккард», модель 1907 года, лоскутки каких-то вальсов проносятся в голове, и никак, ну никак не выходит проникнуть туда, в камеру с сероватыми стенами и огромным потеком сырости в верхнем углу.
«Паккард» урчит и не хочет трогаться с места. Холеная ручка с перламутровыми ногтями тянется к позолоченной телефонной трубке, дабы впрыснуть туда бесконечно милые глупости о последнем карлсбадском сезоне.
Улыбки: эк господин Измайлов по сологубовской «Королеве Ортруде» проехался! Неужто не читали? «Биржевые ведомости», да-с!.. и нафедорит Сологуб… ха-ха…
Благословенное неспешной возвышенностью ретро, где всюду есть ход, кроме камеры с сероватыми стенами и огромным потеком сырости в верхнем углу.
12
Пусть завтра голова развалится, но сегодня мой день.
Действительно, передо мной, вокруг меня, всюду — камера. И невероятный дух, концентрат сырости и беды, — беда пахнет по-своему.
— Будьте вы прокляты, — громко шепчет Струйский.
Кто — вы?
Дело-то повернулось второй картинкой, кою добродушный полковник Ильин не пожелал объяснить. И возможно, первая, весьма тщательно нарисованная, кажется теперь Борису Иннокентьевичу едва ли не идиллией.
Похихикивая и неуклюже пританцовывая в цветастой гирлянде патриотических бантиков, проплывает перед ним Иннокентий Львович, мудрый и слишком впечатлительный родитель его. И пытается бить земные поклоны перед укрепленным в рамочке самоличным письмом Пуришкевича Владимира Митрофановича и толстой пожелтевшей пачкой «Русского знамени», под рамочкой сложенной.
И поскользнувшись на странных, ни в какие рамки не втискивающихся событиях, начинает стремительно — со ступеньки на ступеньку — спрыгивать вниз по бесконечной черной лестнице в неведомый подвал, откуда нет и быть не может выхода. А гирлянда нитью Ариадны, скорее всего бесполезной, разматывается и ложится под ноги сыну, и сын рвется туда, чтобы выхватить отца из небытия — вот-вот захлопнется и за ним дверь подвала, но последним усилием он выскакивает на волю, где нет ничего вольного, где блуждают полковничьи картинки, зато нет и бесконечной черной лестницы, откуда доносятся удаляющиеся всхлипы отца, его неровные и почти ритмичные шаги, отзвук которых сглатывается теменью, растирается в шелест листьев на длинной парковой аллее, вдоль которой убегает в одуванчиковую метель безрассудная Симочка…