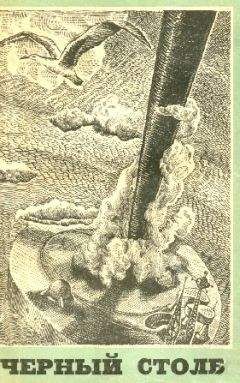Видите, какие мысли внушают Южный Крест и досуг моряка!
Итак, медлить у острова сделалось невозможно. Заспешили плотничьи топоры и кривые иглы парусинщиков. Офицеры не уставали подгонять. Нет места жалости к другим, когда презираешь собственную слабость. Мы должны отчалить, чтобы начать все сначала, по крохам, у побережий, облепленных европейскими кораблями, как мед мухами…
Теперь, когда все ушло в невозвратное, я и шлю вам письмо — горькая удача! — с капитаном одного из этих кораблей, тех, что опередили нас… Трюмы полны, капитан возвращается на родину, — тем труднее наполнить их нам, тем дальше она от нас!
Мне приходится упомянуть еще отчаянную «кухонную» вылазку, предпринятую Ле-Кордеком ради повара и его кладовой. В решающий час не жалели зарядов. Заговорила единственная пушка, сохранившая голос.
Последний возврат на борт. Поверка. Не досчитались одного. Он нарушил строжайший запрет не отлучаться из рядов. С мешком за плечами, размахивая свободной рукой, ослушник показался, когда уже захлопали паруса. Упал, поднялся, что-то выкрикивал. Никогда не забуду ледяного презрения, с каким глядел Ле-Кордек на заплетающиеся ноги человека, бежавшего изо всех сил, не выпуская мешка. Приготовившись скомандовать, я запнулся.
— Вы что, французский дворянин или… — с грубой угрозой, без обращения сказал Ле-Кордек. — Якорь!
Дисциплина на судне жестче, чем в осажденной крепости. По моему знаку младший офицер обнажил кортик. Люди взялись за рукояти. Заскрежетал ворот. Тяжелые звенья поползли на палубу, мокрые и лоснящиеся. Как фарш из мясорубки. Так я подумал в первый раз в жизни.
— Я покажу каналье! Я проучу всех каналий, — сквозь зубы пробормотал Ле-Кордек. Он думал о мачте, просвистевшей мимо его виска.
Матрос все бежал по берегу, за кораблем; одна нога его, в кромке прибоя, зарывалась в песок, точно он был хром или изувечен в сражении, — вымоченный до пояса, он не замечал ничего, и все махал рукой, и все придерживал мешок, оттягивающий ему плечи (Что было там? Золото, жемчужницы, откопанные в пепле сожженной деревни, или, скорее, куски алебастра, принятого за драгоценность?) Изо рта, зияющего как рана, вылетал непрерывный, на одной ноте, хриплый, уже почти беззвучный вой. Я не видел никогда ужаса, подобного тому, какой исказил каждую черту этого человека. Еще живой, рядом с нами, он был мертвец, непереходимой гранью отрезанный от жизни. И с каждым мгновением ширилось то, что отделяло, отсекало его. Он остановился наконец. Гримасничал и дергался и все, как заводной, взывал рукой — далекий, чуждый, под блистающим солнцем, будто зарытый в могиле. Словно я, черным волшебством, подсмотрел муки души у еще не остывшего трупа, в ее страшном одиночестве смерти — на том, уходящем в забвение берегу, откуда никто не возвращается…
Судно ускоряло ход.
Итак, прощай, сладостное видение потерянного рая!
Корабль со ржавой надписью «Цивилизация» причалил к тебе — и оставил кровавый след в твоей лагуне. А что же увез с собой?
Я знаю, что нашу историю назад не поворотишь, как бы ни был печален ее бег, и право наследования, опору общества с его неравенством, нельзя уничтожить, поскольку нам открыто бессмертие души.
По секрету вам скажу, что свои надежды я возлагаю не на дряхлую Европу, но на Америку, смело восставшую против лондонского деспота. Сильные люди, свободные от величия и гербов предков… Найдется ли в среде их философ, который укажет им правый путь?
Вот, дорогой и милый друг, то, что я хотел вам написать. Я стал болтлив. Простите мне это. Вспоминайте обо мне.
Остров мы назвали (я так предложил): Святое Упование. И водрузили на нем лилии Бурбонов.
Я уповаю.
Целую ваши ручки, так как больше не смею сделать того же с самыми прелестными губками на земле».
— Я прочитал, — сказал ученый.
— Да? — отозвался друг.
— Литература, разумеется. Фикция, как справедливо предпочитали обозначать это англичане. Но в основе тут что-то есть.
— А вам не приходит в голову, что именно литература и искусство рассказали человеку главную правду о нем самом?
— Признаем просто, что памятник любопытен. Кодификаторы пропускают многое. И я хотел бы опубликовать его, сославшись, само собой, на вас.
С. ЛАРИН
Пафос современной фантастики
Когда-то автор книги об Уэллсе, написанной в первые годы революции, Евгений Замятин, говоря об отсутствии фантастической традиции в русской литературе, верно объяснил причины этого явления «окаменелой жизнью старой дореволюционной России». Однако, как казалось ему, нарождающаяся новая действительность внесет сюда свои коррективы. «Россия послереволюционная, — писал он, — ставшая фантастичнейшей из стран современной Европы, несомненно отразит этот период своей истории в фантастике литературной».
Дальнейшее развитие нашей литературы подтвердило справедливость этих слов. Сейчас можно говорить не об отдельных образцах научной фантастики, как это было в 30-40-е или первые послевоенные годы, но обо многих десятках произведений этого жанра, о целой фантастической литературе, которая особенно бурно развивается сейчас, во время, отмеченное поразительными успехами нашей науки в освоении космоса.
Появляются не только фантастические романы, но и книги о самой научной фантастике. Я имею в виду вышедшую недавно работу молодого критика Юрия Рюрикова «Через 100 и 1000 лет». Книга Рюрикова не просто работа обзорного характера, анализирующая ряд научно-фантастических произведений последнего времени. Основное внимание критика сконцентрировано вокруг одной из центральных проблем современной фантастики — на вопросе о том, как она изображает человека будущего. В этом смысле его работа в чем-то сродни самим произведениям фантастов. Сопоставляя характеры героев книг, созданные писателями-фантастами, с данными науки, исследованиями, экспериментами ученых, психологов, социологов, с рассуждениями философов, Ю.Рюриков стремится как бы вслед за писателями спроецировать на своем экране облик нового, грядущего человека. Книга привлекает широкой эрудицией автора, свободной манерой разговора, который он ведет с читателем, умея о самых сложных и мало изученных наукой понятиях и гипотезах говорить просто, увлекательно, ярко и образно. Эти достоинства книги тем более дороги, что автор ее в нашей весьма небогатой критической литературе о фантастике идет, что называется, по первопутку.
— А может, это схоластика? — скажут нам некоторые нелюбители фантастики, которые, сохранив смутное воспоминание о двух-трех книжках Жюля Верна, прочитанных в далеком детстве, с тех пор считают фантастику этаким легким чтивом «для младшего школьного возраста». — Тоже, мол, «проблема» — человек будущего да еще в фантастическом романе!