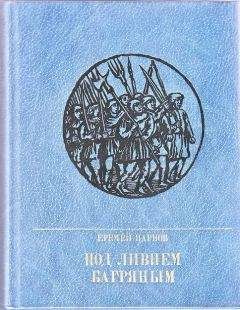А Натка всё это видела, с первой минуты до последней… Категорически отказавшись, как её не просил об этом Бекренев, не то, что уйти подальше, но даже отвернуться. Потому что она не считала себя в праве оставаться чистенькой в этом грязном и кровавом деле — возмездии… Если она себя назначила судьей, то обязана была стать и палачом. А иначе, никак…
Но после того, что она увидела, там, на берегу… внутри неё что-то заледенело, застыло… Будто бы сердце, устав от нестерпимой душевной муки биться, тихо затрепетав напоследок, замерло…
Странно, но Натка ничего такого у своих спутников не замечала!
Филя все так же был где-то там, далеко-далеко отсюда, в своих загадочных смыслах…
Савва Игнатьевич всё так же беззвучно шевелил губами — стихи он, что ли, про себя непрерывно читает?
Бекренев вообще, как маленький, весело кидался еловыми шишками с радостно уворачивающимся дефективным подростком.
Малолетний же душегуб, судя по всему, увиденной им экзекуцией нимало не был удручен. Впрочем, он еще совсем ребенок! Не ведающий добра и зла. Ведь и её-то, Натку, он убил вовсе не по злобе, а чтобы только мама его потом за разбой не ругала. И очень потом из-за этого досадного происшествия совершенно искренне переживал.
Когда приехавший в запряженной людьми повозке козлобородый чин щедро стал обещать им всем много разных приятных вещей, включая «барабан и щенка бульдога», Натка ему ни на грош не поверила. Ну вот ни на эстолько… Просто она поняла сразу: козлобородый врет. Врет им нагло и уверенно, прямо в глаза, ничего не стесняясь и не испытывая никаких сомнений. Врет так, что на миг он даже сам себе верит. И если они сейчас от его сладких посулов откажутся, то убивать он их будет с горькой обидой: Как же так? Он ведь им столько пообещал, а они, сволочи… Не оценили.
И потому Натка легко согласилась на все его предложения… А что? Пусть приведет их к цели! Лучшего проводника к последнему, девятому кругу не отыскать. А там… Наверняка, уж какая-то связь там есть? Ей бы только в общую телеграфную сеть войти! А там, посмотрим… Есть у неё одно петушиное слово.
Одного только не понимала Натка: как, дожив до двадцати годов, она была настолько слепой? Ведь это всё… всё, что она увидела и узнала за последние три дня, никто и никогда ни от кого не прятал! Как там в той песне было, которую пели узники: «Это не тайна и не секрет!» Какая уж там тайна. Когда к любому пассажирскому поезду на любом вокзале цепляется багажный вагон, с узкими продолговатыми, с закругленными с концов оконцами, с молочно-белым непрозрачным стеклом, прорезанные под самой крышей, к которому — вот удивительно? — совсем не спешат носильщики и пассажиры, чтобы сдать в него свои вещи? Когда на Таганке, во дворах, по пятницам выстраивается черная очередь к неприметной двери в глухой кирпичной стене? И такая же очередь по четвергам на Новослободской, к красно-кирпичному зданию с угловыми круглыми башнями? И на Красной Пресне, по средам… И в самом Центре, на улице Дзержинского, которая была Малой Лубянкой, у дома номер четыре, двухэтажного особнячка в глубине двора? В любой день недели? И в Лефортово? И…
А то, что бесследно вдруг исчезают знакомые ей люди? Приходишь так в свой технарь, а на кабинете директора синеет печатью белая бумажная наклейка… И куда делся заслуженный учитель, инвалид Гражданской войны, краснознаменец, не понимавший к своему горю педологических изысков некоторых своих коллег, никому якобы не ведомо? Это тоже ужасный секрет?
Натка мучительно застонала… Всё она видела и знала. Но полагала: кому надо, те разберутся во всём! И свято верила — она живет в лучшей на всей земле стране! Стране Свободы и Справедливости! И не утратила веру даже сейчас. Потому что вера не требует никаких доказательств. Как сказал бы Филипп Кондратьевич, et mortuus est Dei Filius, prorsus credibile est, quia ineptum est; et sepultus resurrexit, certum est, quia impossibile. (Сын Божий умер; и это вполне вероятно, потому что это безумно. Он погребен и воскрес; и это вполне достоверно, потому что это невозможно.)
Но вот то, что можно навести советский порядок в одном, отдельно взятым за пупыню, поселке Барашево вполне ей по силам, она верила тоже.
И потому, краем уха стала прислушиваться, о чем вдруг заговорил Бекренев с козлобородым провожатым:
— Страшная это болезнь — холера! человек чувствует себя при ней почти здоровым, жалуется только на кишечную слабость и жар. Разговаривает, ест, смеется. И вдруг! Прямо на глазах человека начинает корчить, корежить, он жалуется на кишечное расстройство и рвоту, его начинают сводить судорога и корежить конвульсии, он синеет, чернеет, холодеет и умирает…
— Ваша правда! — согласно кивал головой Валерий Иванович. — Вот, помню, в двадцатом… Остановился наш эшелон как-то на станции Вепнярка: паровоз издох… Ну… Решили мы с товарищами оказии обождать! В помещении вокзала было душно… Пахло карболкой и хлорной известью, которыми проводили дезинфекцию. Всюду валялись больные. Мы тогда решили переждать на свежем воздухе, в уголке пристанционного садочка. Рядом с нами были и другие пассажиры. С вечера, бывало, этак сначала всё сидишь, глядишь, не спишь, а потом… задремлешь. А проснёшься, как поднимешься, и кругом посмотришь — рядом лежат скорчившиеся, посиневшие и почерневшие трупы людей, умерших от холеры. Ужас охватывал меня: ведь только несколько часов назад мы с ними разговаривали, смеялись, спорили с этими несчастными людьми, и вот их уже нет в живых…
— Вот, видите! — убежденно вещал козлобородый. — Мы выполняем важнейшие научные исследования, спасая жизни десятков тысяч людей!
— Согласен. — кивнул утвердительно головой Бекренев. — При этом убивая десятки…
— Да, убивая. И что? Это война! Разве на войне вам не приходилось посылать людей, например, в разведку боем? Чтобы ценой их жизней выявить систему огня неприятеля, и спасти сотни других бойцов?
Бекренев задумался… Потом сказал, убежденно:
— Я врач, и знаю, что иное лекарство требует проверки на человеке… Но: во-первых, настоящий исследователь проверяет всегда на себе. А во-вторых, товарисч Сванидзе, есть такое правило: если лжец изрекает, казалось бы, сущую истину, он всё равно лжет!
Козлобородый собеседник резко остановился, спросил обиженно, дрожа губами:
— Почему вы считаете меня лжецом? Кто вам дал такое право?
— Не только лжецом, а самим Отцом лжи! И вся ваша страна, это огромная, сплошная ложь! Нет…, — вдруг перебил самого себя Валерий Иванович. — Я не говорю про великий и могучий Советский Союз! Который создавался яростными идейными фанатиками и прекраснодушными мечтателями, готовыми пинками загнать человечество в счастье! И чтобы никто не ушел обиженным… Я говорю про ВАШУ страну, страну потаенную, страну-паразит, которая присосалась к могучему телу Советской России! Страну с приставкой «спец»! Спец-объекты, спец-поликлиники, спец-дома, спец-распределители, спец-школы, спец-черт бы вас всех побрал, всё на свете! И всё в тайне, всё в потёмках… А что в тайне, то всегда как правило оказывается — мерзость.