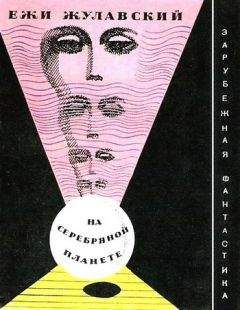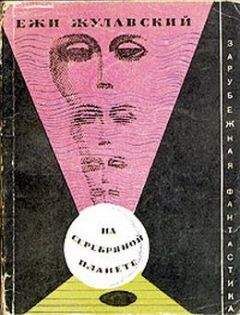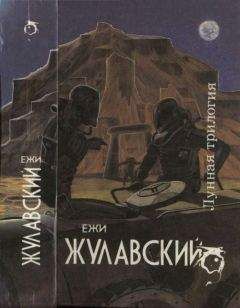Легко понять, что Рэй Бредбери отнюдь не пытается описывать реальный Марс, но лунные пейзажи Жулавского прямо-таки гипнотизируют своим детальным соответствием многому, что мы сегодня знаем о Луне, и потому не вызывают сомнений. А между тем именно в них и проявился с наибольшей, пожалуй; силой талант Жулавского-фантаста. С удивительным чутьем и тактом он сумел затушевать и убрать целый ряд деталей, подчеркнуть и усилить ряд других — ив результате добиться той необычайной рельефности и экспрессии, которые создают упомянутый выше «эффект присутствия».
Дело в том, что подлинный пейзаж Луны весьма мало походит на то, что изображено Жулавским. Писатель, столь дотошно изучавший астрономию, не мог, конечно, не знать о том, что кривизна лунной поверхности намного больше (из-за малых размеров Луны), чем кривизна земной, а потому виды, открывающиеся из любой точки Луны на окружающую местность, далеко не столь величественны и грандиозны, как он это изобразил. Вдобавок лунные горы весьма пологи. Какие «пики» могут быть у знаменитой горы Питон, если она достигает в длину сорок километров при высоте 2000 метров. Даже стоя у ее подножия, герои Жулавского видели бы не «головокружительной высоты вершину», а всего лишь однообразную равнину с едва намечающимся подъемом (10 градусов!) в одну сторону. Только внутренние склоны цирков, пожалуй, и могут несколько напоминать описания Жулавского — и то с поправкой на пологость внутренних горок и невидимость (из-за удаленности и кривизны поверхности) противоположных участков кольцевого вала.
Жулавский, таким образом, не пошел ни по пути строгого следования научному факту, ни по пути чистого вымысла — он создал оригинальный, своеобразный сплав, чисто фантастический по своей природе. Там, где трагическая история смельчаков, навсегда покинувших Землю, требовала мрачных и величественно-трагических декораций, писатель усиливал «научную правду» правдой художественного вымысла. В этом проявилась проницательность его таланта — будучи фактически одним из провозвестников современной фантастики, Жулавский видел в ней прежде всего литературу. Именно этим в первую очередь, обусловлена жизненность его книги.
Еще одно обстоятельство достойно внимания. Фантастика Жулавского (хотя это заметнее при чтении трилогии в целом) рождается, в сущности говоря, на пересечении трех, а не двух только линий: помимо научного факта и поэтического воображения в ее создании участвует также и социальная метафора, философски обобщенная мысль. Наличие этой третьей компоненты показывает, с какой зоркостью писатель уловил сущность и призвание того вида литературы, в создании которого участвовал. Как уже сказано выше, он обратился к фантастике потому, что усматривал в ней тот вид литературы, который более всего способен выразить общечеловеческие и общеисторические стороны действительности. При всей наивности социальных и философских аллегорий Жулавского он со своим стремлением соединить литературу, науку и философию в одном виде искусства смело может быть назван не только продолжателем Жюля Верна, но и современником Уэллса.
Вот то немногое, как нам кажется, что было бы интересно узнать сегодняшнему читателю, раскрывающему книгу более чем полувековой давности. Ее глубокая человечность, психологический драматизм и романтическая страстность, восхищение героизмом и самопожертвованием первых исследователей Луны скажут читателю, несомненно, больше о человеке и человечестве, чем о Луне и космосе; но именно в том и состоит волшебство подлинной фантастики, чтобы, унося нас в космические дали или бездны времени, неизменно возвращать на Землю, к нам самим и нашим судьбам.
© Ариадна Громова, Рафаил Нудельман, 1969.
Имеется в виду знаменитая историческая трилогия Генриха Сенкевича («Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володыевский»).