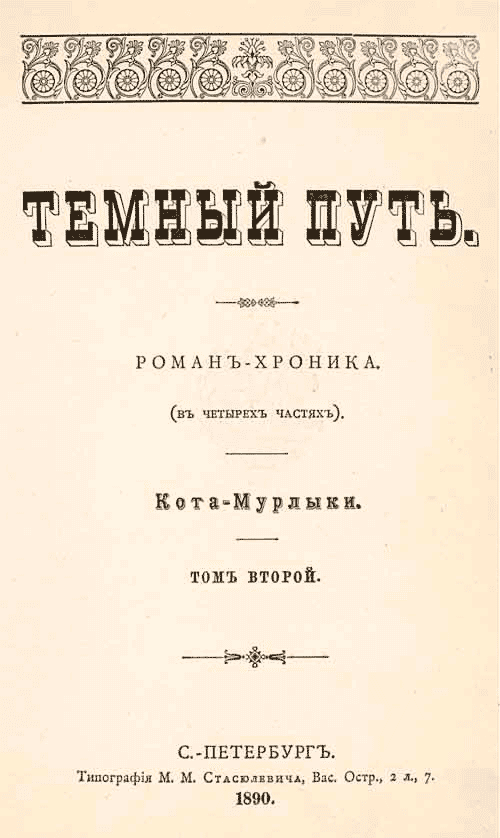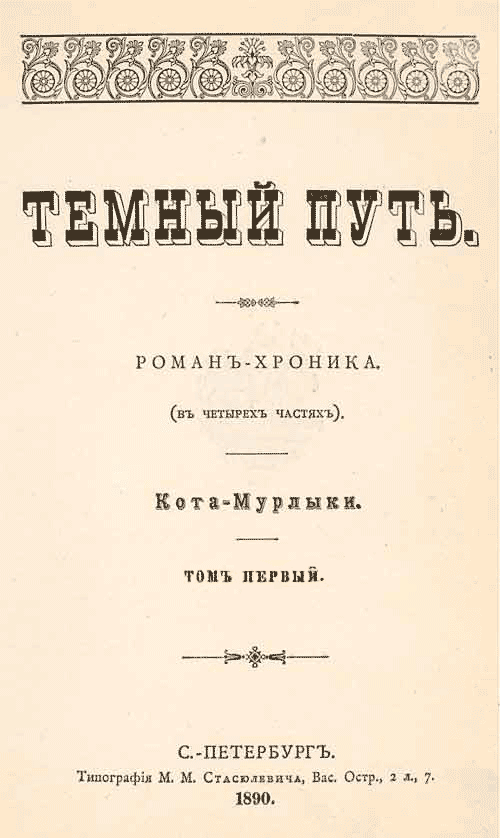class="p1">Тотчас же несколько матросиков бросились убирать убитого. Явились носилки, четверо подняли и положили обезглавленное, облитое кровью тело, а двое, понурив головы, тихим мерным шагом понесли его с бастиона. Все сняли шапки и перекрестились.
Убрать, или «собрать», мертвого или раненого считалось тогда на всех бастионах богоугодным, святым делом.
— Полюдов! — закричал Струмбинский. — Посылай 5 ядер в 4-пушечную!.. Надо ему, разтак его… ответа дать.
И тотчас же прислуга бросилась к орудиям. Комендор нацеливался. Одно орудие навел Струмбинский и выстрел за выстрелом, с гулом и дымом, выпустил пять ядер в неприятельскую батарею.
Но не успел замолкнуть последний удар, как бомбы чаще начали пролетать над нами.
— «Марке-лла!» — кричал каждый раз вестовой. И вдруг чуть не посередине бастиона шлепнулась тяжелая трехпудовая масса. Мгновенно все солдатики, матросы все попряталось под разные прикрытия, ускочило в ямки, в норки, и среди общей тишины несколько мгновений громко, злобно шипела роковая трубка.
Затем грянул оглушительный взрыв, от которого задрожали все стенки из земли и фашинника, и во все стороны разлетелись осколки, зарываясь в землю, пронизывая стенки и разрушая туры.
Эти несколько мгновений показались мне целым часом.
Инстинктивно я также бросился и спрятался за столб, на котором стояла икона. Несколько осколков пролетело в двух-трех шагах от меня, но ни один не задел, не контузил меня, и когда я вышел из-за столба, когда все вылезли из своих убежищ, то я почувствовал, как мои руки и ноги дрожат, голова кружится и сердце сильно колотится в груди.
— Эку прорву вырыл, глядите, глядите, господа! — закричал Сафонский. И действительно, почти на самой середине бастиона была вырыта глубокая воронкообразная яма.
— Вишь, осерчал добре! — флегматически заметил низенький коренастый рыжий матросик-хохол с серебряной серьгой в ухе — Хома Чивиченко.
Помню, тогда на меня налетело странное состояние, близкое к тому, которое охватило меня после смерти Марии Александровны и довело до временного помешательства.
Это была апатия и какой-то злобный, отчаянный индифферентизм. Мне сначала сделалось вдруг страшно, досадно, зачем у меня дрожат руки и ноги, зачем колотится сердце, зачем я бросился без памяти прятаться за столб.
Затем мне захотелось, чтобы это дело разрушения кипело еще сильнее, убийственнее. Пусть дерутся, бьют, громят, пусть убивают и разбивают все вдребезги, в осколки… Так и следует, так необходимо в этом злобном, безобразном мире. Крови! Грома! Разрушенья! — больше, больше!.. «Темный путь! Темное дело!»
И я невольно дико захохотал.
Помню, поручик Сафонский посмотрел на меня как-то странно удивленными глазами.
На другой день я переехал с моей батареи на бастион. Я привез в него четыре моих новеньких 5-дюймовых орудия. Мои орудийные молодцы были бравый молодой народ, горевший нетерпением послать на вражью батарею побольше губительного чугуну и свинцу.
И я, помню, им тогда вполне сочувствовал.
На бастионе лейтенант Фараболов уступил мне свою каморку.
— Все равно, — сказал он, — я три ночи не буду, и вы можете располагаться в ней, как вам будет удобнее.
Но в этом-то и был вопрос: как мне будет удобнее?
Дело в том, что почти всю каморку занимала кровать небольшая, коротенькая, с блинообразным тюфяком, твердым, как камень.
Около кровати помещался стояк с дощечкой, который заменял ночной столик. Более в каморке ничего не было и ничего не могло быть, так как оставалось только крохотное местечко перед маленькой дверью с окошечком или прорезью в виде бубнового туза.
Каждый, входивший в эту дверцу, был обязан тотчас же садиться на кровать, согнувшись в три погибели…
И все-таки эта каморка считалась благодетельным комфортом!
По крайней мере, я рассчитывал, что высплюсь на славу. Но расчеты не оправдались.
Прошедшую ночь я провел без сна. Целую ночь, только стану засыпать, как вдруг во все стороны разлетаются кровавые искры и рыжий скуластый Чивиченко сентенциозно проворчит:
— Вишь, осерчал добре!
Сердце забьется, забьется, — и застучит, зажурчит кровь в висках… И я злюсь, и проклинаю, и гоню к черту все эти непрошеные галлюцинации.
Почти не уснув ни крошки, в четыре часа, со страшной головной болью, я поднялся и начал собираться на бастион.
Благо теперь под рукой были зарядные ящики. Я запасся подушкой и периной, — две бурки, две шинели, — все это давало надежду устроить постель на славу.
И действительно, она была постлана очень мягко, но только спать на ней было жестко.
«Он» — этот постоянный кошмар, давивший каждого военного во все время севастопольской осады — положительно не дал спать.
— Ровно белены объелся! — говорили солдаты. И действительно, «он» давал успокоиться не более как на полчаса, на двадцать минут и вдруг с оника начинал громить залпами, которые, правда, не приносили нам особенного вреда, но постоянно держали в страхе, на ногах, наготове.
Гранаты целыми букетами огненных шаров взлетали над бастионами и начинали сверху свою убийственную пальбу.
Взрывы ежеминутно раздавались то там, то здесь. Зарево стояло в небе.
— Это он готовит, — говорили солдатики.
— Глядь, братцы. Завтра на бастион кинется.
— Дай-то, Господи!
— Давно ждем. Истомил все кишки проклятый!
— Бьет, бьет, что народу переколотил… Страсть!
Все это говорилось точно у меня под ухом, в двух шагах от той дверцы, за которой я думал заснуть.
На рассвете я вышел с головною болью, еще более озлобленный, чем вчера.
Мою батарею поставили на восточную сторону. С этой стороны было менее огня.
«Зачем? — думал я. — Почему?! И с этой стороны должен быть хороший огонь. Больше грому! Больше разрушения!!»
— Комендор! — вскричал я высокому красивому солдату. — Стреляй из всех разом!
— Слушаю, Ваше благородие! — И он закричал: — 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, пли!!
Оглушительный залп потряс тихий утренний воздух.
Солдаты снова накатили отскочившие и дымившимся орудия.
А я жалел, что нельзя снова сейчас же зарядить их и послать новую посылку разрушения. За меня эти посылки посылали другие батареи.
— А вы напрасно выпускаете разом все заряды, — сказал подошедший в это время штабс-капитан Шалболкин — надо всегда наготове держать одно или два орудия с картечью.
— А что?
— А то, что не ровен час он вдруг полезет. Надо быть готовым встретить его вблизи.
— Как вблизи?
— Так! Если он полезет на нас, то подпустить на дистанцию и огорошить. Если прямо в штурмовую колонну, то картечь а-яй бьет здорово! Кучно!
И под этими словами у меня вдруг ясно, отчетливо вырисовалась картина, как бьет эта картечь, как она врезывается в «пушечное мясо», рвет его в клочки и разбрасывает во все стороны лохмотья. Отлично!
— Вы правы, капитан, я воспользуюсь… — И