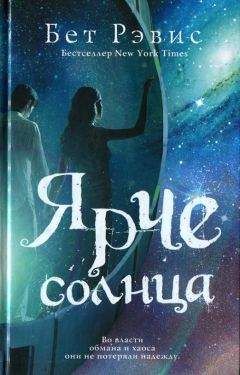«Литература» — самая непопулярная тема. Только несколько молодых женщин пролистывают «Ромео и Джульетту» Шекспира. Витиеватости языка той поры даются им труднее, чем моим однокашникам в девятом классе. Интересно, продравшись через все «бердыши», «шлафроки» и «Я закусил на вас палец, синьоры!», они уйдут отсюда, думая, что это и есть любовь? Мне даже хочется притормозить здесь и рассказать им об одной дискуссии у нас на уроке, когда я доказывала, что Ромео и Джульетта на самом деле не любили друг друга. В девятом классе я была настолько уверена в себе, что выиграла спор (и в качестве награды меня освободили от домашнего задания), и, помню, набрасывалась на оппонента так яростно, что весь класс гудел. Но сейчас… сейчас я не могу вспомнить ни одного аргумента из того спора Ни со своей стороны, ни с другой — и совершенно не представляю, что сказать. Как я могу объяснять, что в «Ромео и Джульетте» говорится не о настоящей любви, людям, которые не имеют понятия о том, что такое любовь? Когда я и сама не знаю, из чего складывается любовь — знаю только, чего в ней точно быть не может.
И тут вдруг все настенные пленки чернеют.
— Эй! — недовольно восклицает одна из девушек, читавших Шекспира.
— Что случилось? — рычит дородный мужчина у пленки с «Сельским хозяйством».
На темных экранах начинают мелькать огромные белые буквы, снова и снова освещая холл одной-единственной фразой:
ВЕДИ СЕБЯ САМ
С круглыми глазами я спешно опускаю капюшон еще ниже на лицо, так что на спине натягивается шов. Пока остальные, отвлекшись, читают слова и недоумевают, почему они появились на пленках, я торопливо иду в дальнюю часть Регистратеки, к залам с книгами. Что-то подобное обязано было случиться. Старший все свободное время сидел здесь и читал о гражданском праве и полиции, но едва ли он понимал, что бывают люди, которым захочется бунтовать просто потому, что впервые в жизни они могут это сделать.
— Кто это сделал? — прорывается сквозь бормотание толпы мужской голос. Он звучит опасливо, даже испуганно, но и агрессивно, будто ему хочется найти и наказать того, кто взломал пленочную сеть.
— Что это значит? — спрашивает какая-то женщина, когда я прохожу мимо. Ее подруга, распахнув испуганные глаза, мотает головой так резко, что волосы бьют по щекам.
Женщина у пленки «Естественных наук» начинает нажимать на экран, пытаясь убрать надпись, но все ее усилия тщетны, и толпа вокруг принимается взволнованно шептаться. Видимо, тот, кто взломал пленки, постарался на славу.
— Старейшине надо их починить, — говорит тот, первый мужчина. До меня только через мгновение доходит, что он имеет в виду Старшего. Многие вокруг него кивают, не сводя глаз с экрана и раскрыв рты.
— Все было нормально, пока мимо не прошла эта странная, — четко и громко замечает одна из девушек, которые читали «Ромео и Джульетту», и начинает оглядывать толпу у входа, ища меня. Пригнувшись, я выбегаю в дальний коридор.
Вздыхаю свободно, лишь оказавшись в зале художественной литературы и закрыв за собой дверь. Замка на ней нет — мало где на корабле они вообще есть, — но, если переждать здесь, люди в холле, наверное, успокоятся и забудут обо мне.
Зал художественной литературы самый маленький на этом этаже; понятное дело, те, кто отправлял корабль, считали, что история и науки важнее романов. Жаль, что он не похож на мою земную библиотеку, где повсюду расставлены кресла-груши, пол покрывает темный ковер, на стенах висят плакаты со знаменитыми писателями а солнечные лучи пробиваются через малюсенькие пыльные квадратные окошки. Нет, зал художественной литературы выглядит точно так же, как все остальное на корабле — холодным, пустым и чересчур чистым. Он похож на больничную палату с книгами вместо кроватей: белый плиточный пол, строгие, обшитые панелями стены и стол из серебристого металла.
Хоть зал и сверкает чистотой, но книги поселили здесь вездесущий запах пыли и старой бумаги. Все стоит в алфавитном порядке, невзирая на жанр. Чосер и Агата Кристи, Дж. К. Роулинг, Доктор Сьюз и Шекспир. Добравшись до конца ряда и глядя на следующий, я замечаю непонятные названия. Некоторые написаны на языках, которые я могу угадать — французский, немецкий, испанский, — а некоторые даже примерно не представляю. Китайский? Корейский? Японский?
Я могла бы зависнуть тут навечно, но мне нужно проверить — вдруг Орион действительно оставил мне на проводе вай-кома тайное послание. Оторвавшись от сказок и поэзии (братьев Гримм и Гете), направляюсь к первому ряду. Веду пальцами по пухлым корешкам книг, оглядываю первый стеллаж, проверяя названия — «Странствия Пилигрима», «Игра Эндера», «Мышеловка», — пока не дохожу до искомого.
«Ад», том первый «Божественной комедии» Данте Алигьери, стоит рядом с тоненьким томиком сонетов Шекспира. Какая ирония — сборник любовных стихов бок о бок с книгой о Преисподней. Вынимаю сонеты и кидаю на стол, чтобы позже убрать к букве «Ш», а потом зацепляю пальцем корешок Дантова «Ада».
Уже одно заглавие навевает воспоминания о времени, проведенном на уроках литературы у мисс Паркер. Я чувствую жесткое сиденье стула, вспоминаю, как мы с Райаном и Майком веселились, работая над итоговым проектом.
Забавно, что книга про ад так напоминает мне о доме.
Когда я начинаю тащить Данте с полки, что-то, выскользнув, падает на пол. Наклоняюсь и подбираю — это оказывается прямоугольник из черного пластика толщиной с лист бумаги и площадью примерно с мою ладонь. По ощущениям напоминает пленку, но он меньше, и в одном углу утолщение размером с ноготь. Опускаю его в карман — Старший, наверное, разберется, что это такое. Поднимаюсь и снова тянусь за «Адом».
Вдруг распахивается дверь. Я замечаю искаженное ужасом женское лицо — округлившиеся глаза, разлетевшиеся темные волосы. Девушка проносится мимо меня в дальний угол и бросается за последний стеллаж.
Кидаюсь за ней и падаю на колени у ее дрожащего тела.
— Что случилось? — спрашиваю я и тянусь к ней. Теперь, разглядев как следует, я понимаю, кто это: Виктрия. Подруга Харли и Старшего. Которая, кажется, пишет рассказы или романы. Когда мы разговаривали в прошлый раз, я рассказала ей, что небо на Земле никогда не кончается, а она накинулась на меня и наорала при всех.
Она отстраняется. На лице и руках блестят капельки пота, дыхание вырывается с трудом.
— Лют… Лютор. Он…
Он.
Внутри все сжимается.
Это он. Он поймал меня три месяца назад, использовал Сезон как предлог, чтобы попытаться меня изнасиловать. Он не хуже Харли и Старшего понимал, что происходит вокруг, фидус на него не действовал. Он понимал, что делает, когда прижал меня к земле и придавил собой. Когда смотрел, как в моих глазах тает надежда. Когда я перестала бороться.