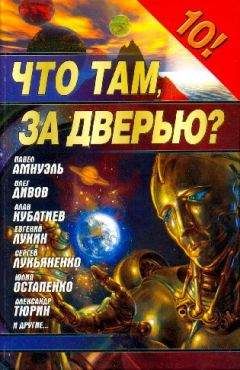— Хотя можно подумать, тебя это волнует! Тебя вообще ничего не колышет! Привык, да? Какой я у тебя по счету? Или сбился уже? Скольких ты уже пережил?!
Про это Валь тоже говорил: как обидно знать, что жизни тебе отмерено много меньше, чем остальным. Меньше, потому что разве безумие можно назвать жизнью?
Крей поправил седые волосы под капюшоном. Да, он старик. Л-рей даже не представляет, сколько уже живет его спутник. И как долго ощущает себя стариком: откуда мальчишке знать, что Крей поседел в неполные девятнадцать лет.
…Они остановились на опушке, и только птицы да привычные лошади слышали безумные крики. Приступ ломал Валя до утра, и Крей чуть не плакал. Опоздали, Валь тянул слишком долго.
На рассвете тело обмякло, безумие ушло из глаз, и только кровь пузырилась на прокушенных губах. Валь с тоской глянул на розовеющее небо: он знал, что такой длинный приступ — первый признак надвигающегося безумия. Неизбежного, как таяние снега весной, как смена ночи и дня. Даже если л-рей не увидит больше ни одного проклятого, его судьба уже определена.
Крей отлучился только за хворостом, ненадолго. Но когда вернулся к затухающему костру, Валь висел на старой сосенке, почти касаясь ногами земли.
После похорон — тайных, Валь не хотел бы, чтобы его могилой пугали суеверных, — Крей мог вернуться домой. Или присмотреть деревеньку, жениться и никогда не вспоминать путешествие с л-реем. Но он заправил седые волосы под капюшон и поехал в сторону Еванова. К вечеру его догнали Псы, пристроились след в след.
Валь оставил точное указание, где искать нового л-рея. Он слишком хорошо знал Крея, все-таки шесть лет не расставались ни на один день.
С того зимнего вечера, когда Псы вытащили зареванного пацаненка из подвала школы и приволокли в замок. Даже не дали обуться, и он переступал босыми ногами на холодном мраморном полу, ежась от страха. Рядом так же дрожали еще четверо, а вдоль строя шел л-рей: тринадцатилетний мальчишка с усталыми глазами. Парень, стоявший рядом, затряс головой: нет, я не проклятый, это ошибка! Но не посмел двинуться с места.
Крей втянул голову в плечи, когда л-рей встал напротив, пристально глянул холодными глазами цвета дорожной пыли. А потом его лицо словно присыпали той же пылью, таким серым оно стало. Губы шевельнулись, но вряд ли кто еще услышал произнесенное.
Испуганного Крея заперли в комнате — богатой, заставленной дорогой мебелью, такую мальчишка видел только в доме школьного попечителя, куда ходил на правах первого ученика. Он промаялся всю ночь. В животе ледяным ежом ворочался страх и не давал уснуть. А под утро в комнату вошел л-рей, бухнулся без сил в кресло, опустил на колени руки с опухшими запястьями. На бескровном лице жили только глаза, и они смотрели на Крея так, словно тот отпиливал л-рею ногу. Крей замахал ресницами, и уже был готов пустить слезу, когда л-рей заговорил. Нет, тогда уже — Валь, он назвал свое имя в тот момент, когда окончательно все решил:
— Я не хочу тебя заставлять, хотя имею такую возможность. Я знаю, каково это, когда насильно увозят из дома. Но если бы ты поехал со мной… если бы я знал, что в любой момент могу скинуть с себя проклятие, мне было бы легче. Как будто я не обречен на все это, а сам, добровольно выбрал. Понимаешь?
Крей замотал головой. Валь выдохнул с сожалением:
— Да, ты еще маленький.
Он сказал так, хотя был разве что на полгода-год старше. Крей оскорблено засопел. Дурачок, разве он понимал тогда, что для л-рея год — что обычному пацану три. Наверное, только в неполных двенадцать можно принимать решение из желания доказать, что уже все понимаешь и вовсе не так глуп.
А если мальчишки долго путешествуют вместе, они становятся или врагами, или друзьями…
— Ты — восьмой, — еле слышно шевельнул губами Крей.
Восьмой, которого он мог освободить. Седьмой, который об этом не знал. Крей никому не расскажет: не все, как Валь, способны принимать свою судьбу. Промолчит и сейчас, и когда будет сопровождать нового л-рея, и следующего — о-рей живет очень долго.
Багрово-красное солнце коснулось горизонта. Крей привстал на стременах, вглядываясь в небольшую рощицу у излучины. Пора делать привал.
Евгений Лукин
Враньё, ведущее к правде
Теперь я вижу, что был прав в своих заблуждениях.
Великий Нгуен
Умру не забуду очаровательное обвинение, предъявленное заочно супругам Лукиным в те доисторические времена, когда публикация нашей повестушки в областной молодежной газете была после первых двух выпусков остановлена распоряжением обкома КПСС. «А в чем дело? — с недоумением спросили у распорядившейся тетеньки. — Фантастика же…» «Так это они говорят, что фантастика! — в праведном гневе отвечала та. — А на самом деле?!» Помнится, когда нам передали этот разговор, мы долго и нервно смеялись. Много чего с тех пор утекло, нет уже Любови Лукиной, второе тысячелетие сменилось третьим, а обвинение живехонько. «Прости, конечно, — говорит мне собрат по клавиатуре, — но никакой ты к черту не фантаст». «А кто же я?» — спрашиваю заинтри-гованно. Собрат кривится и издает бессмысленное звукосочетание «мейнстрим».
Почему бессмысленное? Потому что в действительности никакого мейнстрима нет. По моим наблюдениям, он существует лишь в воспаленном воображении узников фантлага и означает всё, располагающееся вне жилой зоны. Можно, правда, возразить, что и окружающая нас реальность не более чем плод коллективного сочинительства, но об этом позже. Не то чтобы я обиделся на собрата — скорее, был озадачен, поскольку вспомнилось, как волгоградские прозаики (сплошь реалисты), утешить, наверное, желая, не раз сообщали вполголоса, интимно приобняв за плечи: «Ну мыто понимаем, что никакой ты на самом деле не фантаст».
— А кто?
Один, помнится, напряг извилины и после долгой внутренней борьбы неуверенно выдавил:
— Сказочник…
Услышав такое, я ошалел настолько, что даже не засмеялся. Впрочем, моего собеседника следует понять: термин «мистический реализм» (он же «новый реализм») используется пока одними литературоведами, да и то не всеми, а слово «фантастика» в приличном обществе опять перешло в разряд нецензурных. Недаром же, чуя, чем пахнет, лет десять назад несколько мастеров нашего цеха предприняли попытку отмежеваться, назвавшись турбореалистами. Тоже красиво… Так вот о мистическом реализме. Если в Америке и Англии, по словам критиков, сайнс-фикшн и фэнтези традиционно донашивают лохмотья «серьезной» литературы, то у нас всё обстоит наоборот: нынешние модные писатели — зачастую результат утечки мозгов, так сказать, эмигранты жанра. А то и вовсе откровенные компиляторы, беззастенчиво обдирающие нас, грешных, выкраивая из обдирок собственные эпохальные произведения. Что ж, Бог в помощь. Хотелось бы только знать, чем в таком случае этот таинственный мистреа-лизм принципиально отличается от фантастики? Кроме брэнда, конечно.