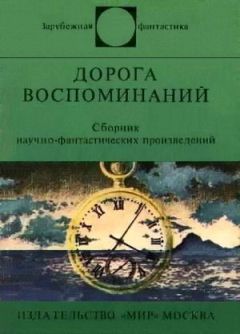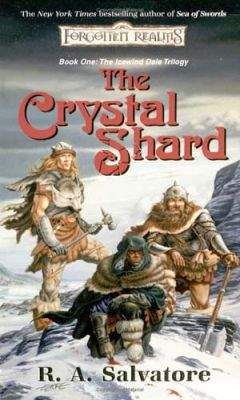Меня довольно трудно вывести из равновесия — очевидно, это профессиональное качество, — но тогда, на том концерте я буквально витал на крыльях блаженства!
Мы в ту пору только начинали. Ну, так и случилось, что Морелья стал моим седьмым пациентом.
Для слепого обретение зрения сопряжено с сильным потрясением, вы это и сами видели. Морелья не составил исключения. Тем более что он был человеком весьма эмоциональным. Он, как дитя, бегал по лестницам, по саду, каждую минуту обо что-то ударяясь — трудно сразу ощутить себя в пространстве, — и кричал, и смеялся, и плакал, ну словом, безумствовал, как мог. Увидев цветник, стал кувыркаться по клумбам! Заметив красочный бордюр под потолком, решил взобраться по стене, чтобы его лучше рассмотреть, — пришлось принести ему лестницу. Это всё надо было видеть!
А как он испугался, когда начало темнеть! Служитель не предупредил его вовремя, и бедный Морелья решил, что снова лишается зрения. Как сейчас вижу — ворвался ко мне: «Негодяи! — кричит. — Зачем вы дали мне посмотреть на мир? Чтобы я потом всю жизнь мучился воспоминаниями? Лучше бы мне никогда ничего не видеть!» — Нервы, нервы. Но именно за это я и любил его.
Пока Морелья отсутствовал, Перес нашёл для своего оркестра — обычно так и бывает — нового исполнителя, вернее исполнительницу, и в один прекрасный день появился здесь с нею! Это была знаменитая Эстебан, Юлия Эстебан, певица. Статная, смуглая, с чёрными, как смоль, росксшпыми волосами, уложенными в высокую, словно Пизанская башня, причёску — казалось, это сооружение вот-вот рассыпется! Не оторвать взгляда! Даже доктор Хмеларж заявил, что будь он несколько моложе…
Морельо она покорила с первой минуты. Одно слово — художник! Повёл её в сад показать клумбы, и вдруг — бац! упал перед ней на колени, и слёзы из глаз — как горох, друг мой, как горох! Она вспыхнула, оттолкнула его и убежала. Перес к Морелье больше и не подошёл, уехал, не простившись. Словом, стали совсем чужими.
Человечество сумело избавиться от многих бед: от нищеты, голода, войн. Мы устраняем болезни, удлиняем жизнь, но вот сердечные тревоги — они по-прежнему остаются! И это, наверное, к лучшему — ведь без этих чувств человек не был бы человеком. Только как врач я считаю, что здесь нельзя переходить определённых границ. Безумства не по мне, но я, вероятно, в этом не разбираюсь.
Мы полагали, что Перес намерен забрать Морелью, но тут уж для безопасности оставили его у себя, порядком взбудораженного. Он ходил сам не свой, никого не замечая вокруг, и думал только о ней. Писал ей, но письма возвращались нераспечатанными. И тогда, к счастью, он схватился за палитру. Как видите, к живописи его по сути дела привело несчастье… Думается, он намерен был писать только её.
Но у кого он учился! Я не могу сказать, что понимаю современную живопись, мне гораздо больше нравятся старые мастера, однако перед тем, что творил Морелья, — шапку долой! Это было новое, но сразу видно, настоящее искусство.
Морелизм — это, собственно говоря, только Морелья, он один, так и знайте! Те, что появились после него, лишь подсмотрели его технику, но у них нет его глаз, нет! Удивительно, что мы ещё тогда не заметили особенностей его зрения. Не от небрежности не заметили — у нас не было опыта. Но не буду забегать вперёд.
Доктор умолк и загляделся куда-то в окно.
— Что же было дальше? — спросил собеседник.
— Дальше? Морелья вышел из санатория, и имя его, как вам известно, стало знаменитым. То он писал Гималаи, то море, то до нас доходили слухи, что он где-то во льдах у полюса — уж такая это была беспокойная душа. На самом же деле он просто искал забвения. Надеялся, что смена впечатлений поможет прогнать мысли о Юлии. Он первым из художников побывал на Луне. Первым написал пейзажи Марса, Венеры. Вы, должно быть, видели их репродукции, они стали хрестоматийными! Однако характерно, что репродукции полотен Морельи дают лишь отдалённое представление об оригинале. Они лишены того волшебства, тех чар, что скрыты в подлинниках.
И вот стали появляться странные сообщения. На Марсе благодаря Морелье был открыт некий крайне необычный вид растений. Каждый день все мимо них ходили, никому в голову не приходило, что это представители тамошней флоры! Какие-то там образования неопределённой формы и неопределённой окраски! А Морелья, всем на удивление, зарисовал их, изобразил на них прожилки, которые никто не видел. Сначала все смеялись, говорили — вымысел художника. А потом исследования подтвердили, что Морелья прав.
Или на Венере. В жарком, влажном климате, где весьма ограничена видимость, Морелья различал местность на больших расстояниях, был там практически вожаком экспедиции! После всех этих сообщений мы решили, что наградили его не просто зрением, присущим нормальным людям, а каким-то сверхзрением.
Я написал Морелье письмо. Так, мол, и так, в интересах науки необходимо как следует вас исследовать, это может оказаться очень важным для человечества. Морелья согласился, больше того, обещал устроить внизу, в городе, выставку своих картин.
Торжество было огромное. Город у нас небольшой, и вдруг такое событие! Римского цезаря так не встречали!
А потом началось обследование. Признаюсь, пришлось испытать неловкость от того, что мы не заметили в своё время столь очевидных отклонений. Но тогда нам недоставало опыта, и тем усерднее мы взялись за работу теперь.
Морелья видел детали, неразличимые для нормального человеческого глаза. Он читал книги с трёхметрового расстояния. Безошибочно узнавал издали людей. Нам даже стало казаться, что и цвета-то он видит по-другому, что мир представляется ему гораздо красочнее, чем нам. Этого нельзя было объяснить только художественной одарённостью! Совсем напротив: одарённость была скорее следствием, чем причиной загадочных свойств его зрения. Так что мы никак не могли понять, в чём тут дело.
И вдруг однажды вернулся из города коллега Хмеларж и прямо с порога загремел:
— Все вы слепые мыши, возитесь тут за закрытыми дверьми, а разгадка-то там, в его картинах! Извольте признаться, уважаемые, кто из вас побывал на его выставке?
Мы со стыдом признались, что никто.
— Вот видите, — заключил Хмеларж. — Мчитесь туда сию же минуту!
Ну, мы и помчались. Я там попросту потерял дар речи. Глаз не мог оторвать! Была там картина, которая называлась «Радость». Двое влюблённых глядят друг другу в глаза. Казалось бы, самая обычная композиция. Но когда я стоял перед ней, меня вдруг пронзила какая-то странная тихая радость, словно бы в мире не было никаких забот, никаких печалей, я чувствовал, что испытываю какое-то уже знакомое, уже пережитое ощущение. И тут я вспомнил концерт Морельи в сопровождении оркестра Переса с этими проклятыми ультразвуками. Картина на меня действовала точно так же. Или взять большое полотно «Горе»! Опять-таки всё предельно просто: юноша, склонившийся над письмом. Во всём его облике, в положении рук, в согнутой спине было столько отчаяния, что у зрителя слёзы навёртывались на глаза. Словно бы я видел на картине Морелью в пору, когда он писал те злосчастные письма к Юлии Эстебан. Бедняга, подумал я, так ты её не забыл!