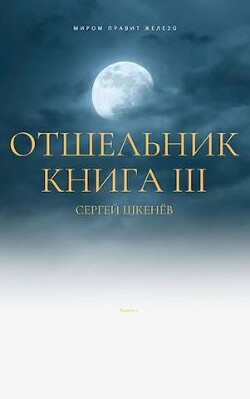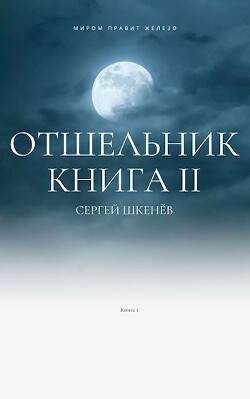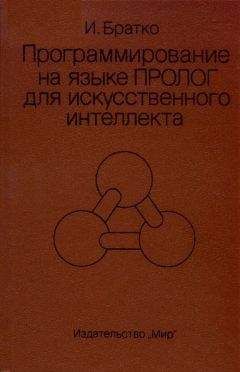— Что ты несёшь, болван? — маркграф ударил святошу в живот кулаком в латной перчатке, отчего тот упал на колени, и его вырвало съеденным на завтрак каплуном и тёмным пивом. — В цепи мерзавца, а потом спросим, кто его научил предательским речам.
Императоры Священной Римской Империи издавна вели борьбу с Папами Римскими, порой переходящую в боевые действия, и Готфрид фон Гогенштауфен, как приближённый нынешнего императора, тоже недолюбливал святых отцов. Он и монаха пригрел в замке только лишь из приличий, ну и для того, чтобы было кому окормлять гарнизон и наёмников.
Да и то сказать, Папа Римский, вошедший на Святой Престол на мечах выживших участников неудачного крестового похода на Московию, ведёт себя подозрительно — перестал в проповедях предавать анафеме проклятых схизматиков, и даже намекает, что не прочь бы встретиться с их Патриархом, дабы урегулировать возникшие между католиками и православными недоразумения.
Однако воины гарнизона не придерживались отличного от своего сеньора мнения, и заковывать монаха в цепи не торопились. Это же святотатство! Как можно налагать железа на такого весёлого обжору и пьяницу, в благочестии своём не пропускающего ни одной юбки в замке? Это оскорбление католической церкви.
Маркграф даже расслышал глухой ропот и не стал обострять ситуацию. Отдал другую команду:
— Эй, арбалетчики, ну ка угостите варвара болтами! Негоже гостю оставаться без угощения! — и первым рассмеялся над собственной немудрёной шуткой.
Вот этот приказ выполнили охотно. Точнее, попытались выполнить, так как татарин сразу заметил угрозу, моментально соскочил с коня, и сдёрнул с плеча висевшую там на ремне короткую аркебузу с тонким стволом и какой-то толстой штукой под этим стволом. Раздался хлопок, и почти тут же на стене ещё один. И ещё. И ещё… Во все стороны пополз удушливый белый дым, разрывающий лёгкие и выедающий глаза. Два арбалетчика, жутко кашляющие и ослепшие, свалились со стены в ров и там затихли. Наверняка шеи себе сломали.
Сотник Муса Дамирович Аксаков погладил АКМ по ореховому прикладу и проворчал:
— Ну вот, а то всё спрашивали, зачем мне подствольник и гранаты с «черёмухой». Ведь хорошая же штука!
На взрывы гранат тут же примчалась подмога, волокущая с собой маленькую бронзовую пушчонку калибром семьдесят шесть миллиметров. Да, на Руси давно уже ввели самарскую систему измерений, в девичестве метрическую, и все оценили удобство, когда один килограмм одинаков что в Москве, что в Твери, что в Новгороде. Так что пушка была именно семьдесят шесть миллиметров. Но её обычно хватало, чтобы начинённый тротилом снаряд вынес ворота любого города или замка., пусть даже не с первого попадания. А тут вообще хорошо — расслабились тирольцы в безопасности, и заржавевшие механизмы не дали поднять мост через ров. Выкатывай орудие на прямую наводку, и стреляй в собственное удовольствие.
Зарядили, навели, но выстрелить не успели — с воротной башни замахали палкой с привязанной к ней белой рубахой. Знак, понятный каждому.
— Сдаются, сволочи, — с досадой выдохнул один из пушкарей.
— Так и хорошо, — засмеялся сотник. — Тебе бы всё стрелять да рушить, а нам из-под развалин добычу вытаскивать. Ты об этом подумал, Онисим Петрович?
— Всё у вас по-татарски…
— И это значит, что всё хорошо и правильно, — кивнул Муса Дамирович. — Лучше к воротам на переговоры сходи, чем тут ворчать.
Онисим до ворот не дошёл — они распахнулись, и из замка стали выходить бойцы гарнизона, тут же бросающие на землю мечи, алебарды и немногочисленные арбалеты. Последним вышел гордый католический монах весьма упитанной комплекции, ведущий на привязи связанного по рукам местного сеньора. Сеньор одышливо хрипит, хлопает ничего не видящими глазами, и постоянно сплёвывает слюну со следами крови. Видимо, граната со слезоточивым газом взорвалась прямо у него под ногами, и благородный господин сполна вдохнул аромат «черёмухи».
— Молодцы! — похвалил дисциплинированных тирольцев татарский сотник, переходя на саксонское наречие, которое они должны были понимать. — А где те, что стреляли по нам из бомбард?
Католический монах скромно потупился и признался:
— Они не выдержали груза своих грехов и умерли в раскаянии, мой господин.
— Тоже молодцы! — одобрительно кивнул сотник. — Всем даю равную долю в добыче с замка!
Немцы нестройным гулом выразили одобрение, а монашек скромно потупился и попросил:
— Разрешите маркграфа Готфрида в цепи взять, господин? Опасный он человек.
— Да делайте с ним что хотите, — махнул рукой сотник. — Хоть на углях зажарьте и слопайте под пиво. И да, у нас два дня на сбор добычи из замка, а потом мы уходим. Желающие послужить государю-кесарю Иоанну Васильевичу могут пойти с нами.
Это предложение тоже было встречено с одобрением. Вопреки официальной пропаганде, о московитах ходили самые благоприятные слухи, и многие с завистью поглядывали на восток. Там, говорят, воякам жалованье не задерживают, и даже кормят от пуза за счёт казны. И оружие дают справное за счёт казны, не заставляя тратить на железо скудные сбережения. Чего бы так не послужить-то?
Но одобрение одобрением, только желание послужить высказали всего трое, самые молодые и не обременённые семьями. Остальные в возрасте, многим чуть ли не под сорок лет, в замке жёны и детишки остались… Точнее, не в самом замке, а в соседней деревеньке, но она со стен видна, если постараться, то и доплюнуть можно.
А ещё страшно отправляться в неизвестность, в дикую Татарию и Московию, на край земли.
У маркграфа Готфрида фон Гогенштауфена никто не спрашивал, хочет он куда-нибудь переселяться, или не хочет. Последнее, что он помнил, это громкий хлопок прямо под ногами, невозможность вдохнуть и выдохнуть, страшная резь в глазах, а потом удар по голове чем-то тяжёлым. Всё остальное как во сне. И связанные за спиной руки, и замена верёвок на кандалы с железной цепью… В себя пришёл только лёжа в телеге на колючей прелой соломе. Телега куда-то ехала, подпрыгивая на кочках и проваливаясь в многочисленные ямки.
Куда-то везут. А куда? Впрочем, это пока неважно, а важно то, что с пробуждением пришло облегчение — вернулась возможность дышать полной грудью, хоть и с большой осторожностью, и зрение вернулось тоже. Во всяком случае, солому перед лицом маркграф Готфрид видит отчётливо. А везут… плевать, лишь бы выкуп большой не запросили. Сто тысяч талеров он способен отдать без особого напряжения, но вот больше… С другой стороны, не герцог же какой, чтобы больше ста тысяч запросили.
Кто-то весьма грубо перевернул Готфрида, и над ним склонилась бородатая физиономия с раскосыми, но голубыми глазами, заговорившая на верхне-немецком, но с баварским выговором:
— Очухался, болезный? Вот и хорошо, нечего лошадок напрягать. Кобыла-то совсем заморилась.
Маркгаф скосил взгляд на лошадь, и возразил:
— Это мерин.
— Ага, мерин, он самый, — охотно согласился бородатый. — Его и запрягли, когда кобылка заморилась. Так что вылезай, сиятельство, и далее ножками пойдёшь.
Фон Гогенштауфен с трудом сел на прелой соломе, зазвенев железом кандалов, и удивлённо захлопал глазами — пока он пребывал в беспамятстве, его переодели в крестьянскую одежду. Три тысячи чертей и мошонка святого Якова, это почему и зачем? Особенно мерзко выглядят полусандалии из полос вонючей и жёсткой сыромятной кожи на ногах, замотанных в куски грубой холстины не первой свежести.
Бородатый правильно понял взгляд маркграфа, и опять пояснил:
— Твоя бывшая одёжа денег стоит. Ткань хорошая, не меньше восьмидесяти копеек за всё на Москве дадут. Да за сапоги полтину. А тебе сейчас оно и без надобности. Да и совсем без надобности, не только сейчас.
Готфрид ничего не понял, но на всякий случай не стал спорить. Его выдернули из телеги и привязали к ней длинной верёвкой. Руки так и остались скованные. Кстати, он единственный, кто вот так — крестьяне идут свободно, и на их мордах написано довольство жизнь. Бабы и ребятня поменьше, те на телегах.