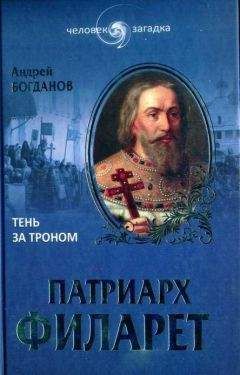Вспомнив момент столкновения с летящим на меня и ярко освещающим жертву фарами стальным монстром, я вздрогнул от пронзившего меня электрического тока. Умер я хоть и быстро, но очень болезненно.
— Так-так-так, — подумал я. — Мне дан ещё один шанс? Странно. Почему, зачем и, главное, за что? Когда я родился тот раз, такого эффекта не было. Достигать совершенства пришлось медленно и с большим трудом. Ха-ха! Про совершенство я, конечно, загнул. Не был я никаким совершенством. Неплохим хирургом был, да. Стал неплохим администратором, потому, что разобрался в бухгалтерии, так, что даже удалось не сесть, за прегрешения предыдущего главврача, передавшиеся мне «по наследству».
Я осмотрел окружающий меня мир, совершенно другим глазами. Елы палы! Я же ещё сегодня утром говорил с самим Иваном Грозным! Ни хрена себе! И видел его, твою мать, голую задницу. И главное, я видел его голую спину. В которую мог вогнать кривой кинжал. А почему «кривой»? И зачем вгонять кинжал в спину Ивана Грозного?
Я потряс головой, спасаясь от наваждения и чёрных мыслей, и, тут же ойкнув от боли и смещения стен комнаты, закрыл глаза и снова лёг на перину.
Теперь я полностью ощущал себя взрослым. Детские мысли исчезли. Ещё совсем недавно мне хотелось делать несколько дел одновременно, читать, бежать, строгать и драться на саблях. Сдерживало меня только моё «мозготрясение». Точно так же я чувствовал себя с того самого момента, как я стал себя ощущать человеком. И чувствовал постоянно. Заставлять себя делать что-то одно было очень тяжело, но я, в конце концов с сбой научился справляться. Но в голове всё равно я то и дело отвлекался и мне с трудом удавалось себя угомонить.
Сейчас же я чувствовал себя спокойным, как удав и внешне и внутренне. Постоянно «звенящий» и тревожащий меня нерв исчез. Я просто лежал и размышлял. Не думал, а именно размышлял по-взрослому, строя планы на будущее.
Совсем по-новому осознавая своё положение в этом мире и всю степень опасности, которая меня ожидает на всём протяжении моей жизни, меня постепенно заполнял животный страх. Сдохнуть тут можно было не только от посадки на кол, но и от любой болячки, типа простуды.
Я вспомнил, что упомянутый моим дедом английский лекарь Ральф, а по факту — Ральф Стендишь — действительно умер в Москве, как писали исторические хроники, от банальной кишечной палочки. А я жру всё подряд и даже руки не всегда мою. Меня передёрнуло и едва не вывернуло, когда я вспомнил, что и после сегодняшнего утреннего туалета, закончившегося подтиркой зада соломой, руки я не помыл, а кусок хлеба и кашу съел, да ещё и пальцы облизал.
— Тьфу, — сплюнул я на пол наполнившую рот тошнотворную слюну.
Да и тот чан, стоявший на улице, где мы с дедом умывались, тоже не часто заполнялся свежей водой.
— Тьфу, — снова сплюнул я и сказал: — Чистота, млять, — залог здоровья!
Услышав колокольный благовест, я поднялся и слегка покачал головой, проверяя своё состояние. Не хватало ещё мне потерять сознание во время службы и бухнуться на пол в церкви. Скажут тогда, что Федька Никитич бесами полонён.
Не почувствовав слабости и головокружения, поднялся, намотал портянки, обулся в сапоги, положил склянку с пчёлами за пазуху и осторожно поспешил в церковь. В храме царил полумрак. Хоть и стояло солнце высоко, но узкие щелевидные окна пропускали немного света.
Солнечные лучи проникали сверху и освещали иконостас. Большинство светильников также размещалось перед иконостасом. Напротив деисуса висело три медных паникадила, а немного западнее еще три: два деревянных и одно медное. Напротив местных икон в нижнем ярусе иконостаса стояло двенадцать поставных свеч (подсвечники у них были глиняными, а насвечники, куда вставляли свечи, — медными). Горящие кусты паникадил и мерцание отдельных свечей освещали дивной красоты иконостас.
Присмотревшись я, словно увидев благолепие внутреннего убранства церкви впервые, разинул рот. А когда в храме зазвучал знаменный распев (1) я едва не расплакался.
Я никогда не был «воцерквлённым». Скорее наоборот. Но приподнятое настроение молящихся и их видимый трепет при вхождении, и стояние так, как стояли бы перед земным царем: сосредоточенно, с благоговением, не озираясь по сторонам, не кашляя и не сморкаясь, поразило меня и пробило на слёзы. Я стоял недвижимым, как и все прихожане, долго, но незаметно служба закончилась. Словно очнувшись от транса все вдруг разом зашевелились, задышали, дружно и степенно вышли из храма и устало, вероятно натрудившись за день, но с посветлевшими лицами, побрели по домам. Моё же тело наоборот было лёгким, а вот разум напряжённым.
Мои ноги сами направили меня в Кремль, хотя идти туда мне совершенно не хотелось, а разум противился. Я откровенно боялся. Ещё сегодня утром не боялся, а теперь трясся, как осиновый лист.
И ведь ничего не изменилось в голове, кроме того, что проснулась осторожность и чувство самосохранения взрослого человека. Очень взрослого и много знающего и о прошлом и о будущем.
— Б-боярин Ф-фёдор Н-никитич Захарьин по государеву делу, — сказал я, чуть заикаясь первым двум стражникам.
Бердыши поднялись и освободили открывшийся проход.
— Пропустили, — вздохнул я.
— Б-боярин Ф-фёдор Н-никитич Захарьин по государеву делу, — сказал я, чуть смелее вторым стражникам.
Бердыши снова поднялись и снова освободили открывшийся проход.
— Снова пропустили, — выдохнул я.
В коридорах царских палат легли тени, усиливающиеся светом масляных светильников. Шаги гулко метались меж стен.
— Боярин Фёдор Н-никитич Захарьин по государеву делу, — сказал я, чуть споткнувшись на отчестве у входа в царскую спальню.
— Входи, — сказали в ответ и распахнули двери.
— О! — раздался весёлый голос царя. — А вот и наш лекарь-пчеловод. Что-то ты припозднился сегодня, Федюня.
— Доброго вечера, великий государь, — дрогнувшим голосом поприветствовал я царя и остановился у двери.
На меня смотрел только Иван Васильевич. Головин погрузился в рассматривание и обдумывание шахматной позиции. За окном быстро темнело, небо затягивало тяжёлыми тучами. Государь проводил мой взгляд.
— Наконец-то дождь выльется, — сказал он — В водовозной башне совсем воды нет. Вонять дворец начал. Ямы помойные не промываются дён десять.
— Да-а-а… Дождь не помешал бы, — задумчиво протянул Головин, двигая коня и укладывая свои песочные часы набок. Государь поставил свои песочные часы стоймя и принялся думать.
— Чего там стоишь? — спросил родственник и показал на третье кресло, стоящее рядом с шахматным столом. — Проходи, садись и учись. Государь разрешает.
Я прошёл через небольшую комнату, с полом, застеленным от стены до стены тонким шёлковым ковром с красно-жёлто-зелёным узором и сел в кресло вынув из-за пазухи бутылёк обмотанный серой тряпицей, перевязанной серой нитью. Чтобы пчёлы не задохнулись. Дед подозрительно на меня зыркнул, так как, и тряпица, и нитка были от того «англицкого» пакета.
— Первая партия? — спросил я, только чтобы что-то спросить.
— Первая, — проговорил царь, почёсывая бороду.
Песок в его часах сыпался.
— Вот так, — сказал он, двинул вперёд пешку и кладя часы на бок спросил: — Знаешь правила игры? Грек показывал, как играть? Он не мог не показать. Греки вредные. Почти все выкресты жидовины. Да не бойся, не накажу.
— Играли, — сознался я.
— Ага! Ты прав был, Михал Петрович. Он может играть в шахматы.
— Да, тут и ежу было понятно. Раз про шашки знает, то и про шахматы должен был знать. Походил. Переворачивай, давай! Не жули (2)!
— Ты кого жульём прозвал? Царя? Да я тебя! — он двинул ферзя. — Шах и мат! Ах-ах-ха!
Царь вскочил с кресла и захлопал себя по коленям.
— Объегорил-объегорил!
— Царь-батюшка, а что это за слово такое: «объегорил»?
Иван Васильевич переглянулся с Головиным и мне показалось, что они оба засмущались.
— Оно тебе надо это знать? — скривился царь. — Мал ещё.