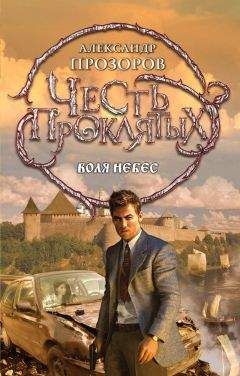– Я, Софоний, царю в том еще до Рождества покаялся, – положил руку на плечо побратима Басарга. – Прощение свое получил и службу с чистой совестью продолжаю. И тебе советую так же поступить.
– Эка ты сравнил, – поежился боярин. – Ты токмо дела церковные помутил, с митрополитом повздорил. Я же супротив самого Иоанна, так выходит, помышлял.
– Иоанн мне сказал, что один раскаявшийся грешник дороже тысячи праведников. И что тому, кто без принуждения признался, верить можно, как вовсе невиновному. За первый проступок царь никого и никогда жестоко не карал. Поклонись ему, прощения попроси. Клятву дай более не злоумышлять. Иоанн Васильевич твое покаяние примет, я его знаю.
– Или покаяться, или в Литву бежать, – сказала Мирослава, приподнявшись в постели. – Ну, или в Крым.
– Если серебро в заначке есть, можно и побежать, – пожал плечами подьячий. – Иначе как жить? Побираться? На службу проситься? Так в Литве, мыслю, своих бояр в достатке, милость у короля есть кому просить. В Крыму же… Первым делом от веры христовой отречься потребуют. Нет, Мирослава, то для честного человека не выход. Государю нужно повинную нести. Иного пути нет.
– А коли не примет? – передернул плечами боярин Зорин.
– Лучше гнев царский, чем чужбина, – ответил ему Басарга. – Иоанн крови не любит, голову не снимет. Гнев уляжется, служба вернется. Друзья и побратимы пропасть не дадут.
Софоний задумался. Прошелся по светелке и уперся лбом в бревно внешней стены, вздохнул:
– Я не один. Она со мной бежала. Пока не заметно. Ныне княжна опять на сносях.
– Ну, так это дело обычное, – усмехнулась Мирослава. – Уж я-то знаю.
– Если Иоанн не простит… Ты ее примешь, друже?
– Эт-то как?! – вскинулась княжна.
– Я о приюте молвил, – торопливо успокоил ее боярин Зорин. – Найдется место для ребенка еще одного и княжны опальной?
– Опальная княжна гнев на дом призрения навести может, нам это ни к чему! – неожиданно твердо отрезала княжна Шуйская. – А дитятку чего не приютить? Пусть растет.
Ее можно было понять: четверо из «сирот» были ее детьми, и привлекать к приюту лишнее внимание Мирослава не желала. Охотясь за заговорщиками, царские опричники сгоряча могут все окрест разорить, чтобы враги государевы пристанища больше не получили.
– Но хоть за детей можешь быть спокоен, – пообещал боярин Леонтьев.
– И на том спасибо, – кивнул Софоний. – Ладно, пойду…
– Ку-уда?! – встрепенулась княжна. – Ты, боярин, смотрю, вовсе разум потерял! Куда ты пойдешь среди ночи по царским хоромам?! Тебя стража через пять шагов повяжет, и тогда уж точно ни в какое покаяние никто не поверит. Решат, что ты тать ночной и смертоубийство умышлял. Или еще чего. Сам сгинешь, и нас под монастырь подведешь. На сундуке, вон, ложись. У служанки моей, Горюшки, тюфяк должен быть. Днем, как все проснутся, в суете общей осторожно и ускользнешь.
Ночь Басарге и Мирославе Софоний, конечно же, испортил. Да еще и собираться на службу княжне пришлось тихо и осторожно, чтобы гостя не разбудить. Она ушла на рассвете, чтобы успеть к одеванию царицы. Бояре поднялись сильно позже, когда в коридоре то и дело слышались шаги хлопочущих по делам людей, тут и там хлопали двери.
– Ну что, идем к царю? – предложил подьячий, после того как оба оделись и подъели оставшиеся с вечера сласти.
– Куда я в таком виде? – красноречиво провел рукой по небритой голове[10] Софоний. – Одежда оборванная, сам немытый. Переодеться бы надо, в баню сходить. Агрипину предупредить, на что решился. Скажу, чтобы к тебе шла, коли не вернусь. Приютишь?
– Значит, княжну твою Агрипиной зовут?
– Ныне места себе, мыслю, не находит. Ушел ввечеру и пропал. Пойдем, покажешь, где остановился, и я к ней побегу.
На постоялом дворе боярина Леонтьева ждал неожиданный сюрприз: Карст Роде, в одной лишь малиновой рубахе поверх портов, жадно пожирающий из лотка бледно-желтую жареную капусту. Еще из лотка торчали куцые гусиные окорочка. Похоже, капуста запекалась вместе с ними.
– Тебя чего, до исподнего по дороге обобрали? – окинул его взглядом Басарга.
– В стирку все свое отдал, господин. – Датчанин старательно облизал руки. – Вчера вернулся, да сразу в баню отправился, как сие у нас на Руси заведено. А в чем одет был, кучей бабам отдал. Пусть вычистят. Тебя же дома не было, посему и не доложился.
Вести себя Роде так и не научился. Хозяином Басаргу признавал, но вставать при нем не вставал, подобострастно не кланялся, а коли что и изображал – так это ужимки дикарские с прыжками и помахиваниями, каковые смотрелись забавно, но никак не уважительно. Кабы холопом был простым, а не пленником – давно бы кнута схлопотал. Но военнопленных пороть, как простолюдинов, нигде не принято. Это ведь человек свой, служивый, боярского рода. Нехорошо. Опять же, выкуп пленник внесет, домой вернется – в очередной сече можно уже самому к нему же в полон попасть… И что тогда? Известное дело: как ты к людям – так и они к тебе.
– Корабль нашел?
– Прости, боярин, ничего подходящего нет, – развел руками датчанин. – По Сухоне и Кубенке до самой обители Белозерской доскакал. Пусто. Даже торговаться не за что. Нет хороших кораблей мореходных.
– Так-таки и ни одного? – не поверил Басарга. – Хочешь сказать, ладьи, ушкуи, кочи русские для моря непригодны? До земель франкских и англицких купцы на них с товаром доходят запросто, а для тебя не годятся?
– Чтобы на море драться, пушки нужны, хозяин. И не ручницы простые, а сильные, сиречь тяжелые. С этим ты спорить не станешь, мой господин?
Подьячий кивнул.
– Вот, смотри. Суда морские такими стоят, – черенком ложки датчанин нарисовал на столе треугольник, ткнул в нижнюю часть. – Сюда балласт кладут для остойчивости, сверху товар, выше палуба с людьми, мачты… И в путь! Внизу тяжело, сверху легко, корабль остойчив. Тяжесть ведь вниз стремится? Так вот, если наши тяжелые пушки поставить наверх, корабль сам перевернется запросто, с ним даже воевать не надобно. Посему пушки всегда ставят не наверх, а вниз, почти на уровне воды. У каракки посередь корпуса для сего низкая палуба сделана, с нее пушками и воюют. У ваших же ладей и ушкуев палуба ровная, и вся наверху. – Роде постучал черенком по верхней части треугольника. – Трюмы при сей конструкции вместительные, купцам это хорошо. Да токмо пушкам места нету, и потому для нас сии суда не годятся.
– А если посередь настил сделать и отверстия для пушек?
– Настил сделать легко, – согласился датчанин. – Да токмо на нем ты головой о палубу постоянно биться будешь и скрючившись ходить[11]. А палуба тоже не просто так сделана, она на бимсах лежит, которые шпангоуты поверху соединяют и прочность обеспечивают. Если их все срезать, корпус развалится, а если ниже поставить – то как раз каракка и получится. Да токмо чем такие переделки затевать, то что по деньгам, что по времени проще будет новый корабль построить. Государь же от нас, как я понял, его уже к весне иметь желает?
– И черт тебя за язык дернул! – скрипнул зубами Басарга.
– Будет тебе корабль, боярин. Вот те крест, будет! – широко, по-русски перекрестился датчанин. – Я как лучше хочу, и потому на первые попавшиеся лоханки не кидаюсь! Выберем достойный корпус, оснастим стволами лучшими… И быть тебе, хозяин, адмиралом!
– Батюшка-боярин! – В светелку, не постучавшись, заскочила запыхавшаяся Горюшка в суконном плаще поверх сарафана и протянула сложенную вчетверо бумагу: – Вот, письмо тебе княжна передать велела! Прощения просим!
Она поклонилась, метнулась к двери.
– Постой, баламутка! Что за спешка?
– Так уезжает двор-то царский! – оглянулась служанка. – Сказывают, об измене Иоанну донесли. Вот он в Москву и метнулся. Сам-то еще с рассветом ускакал, ныне двор следом отправляется. Побегу я, как бы не отстать!
Басарга развернул послание. Короткая записка почти дословно повторяла слова служанки.
– Да, в Москве, сказывают, торг богатый! – встрепенулся датчанин. – Туда и из Персии суда добираются, и от османов, и из Восточного моря[12]. Надобно там посмотреть, туда всякие корабли заплыть могут.
– Штаны сперва надень, умник, – посоветовал ему Басарга. – Тогда и поедем.
– Так это… – растерялся датчанин. – Мокрые они, господин! Сказываю же, постирана одежа вся. Ну, кроме зипуна, конечно. Его насухую, мыслю, чистят. Или выбивают…
– Ладно, тогда отдыхай, – похлопал его по плечу подьячий. – Поедем, когда высохнет.
– Коли у печи сушить, так к вечеру, мыслю, готов буду, – побежал Карст Роде.
– Значит, утром, – решил Басарга. – Мне тут делать больше нечего. Через Тверь и в Москву. Вот только с побратимом что теперь делать? – Он немного подумал и позвал холопа: – Эй, Платон деревенский! Бумагу и чернила достань и стол вычисти. Письмо писать стану.
Софоний появился только после полудня – чистый и благоухающий, в новом лисьем опашне и пушистой шапке из горностая, вычесанной крохотной бородкой клинышком и свежебритой головой.