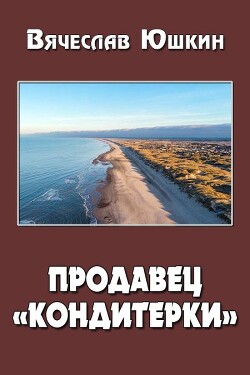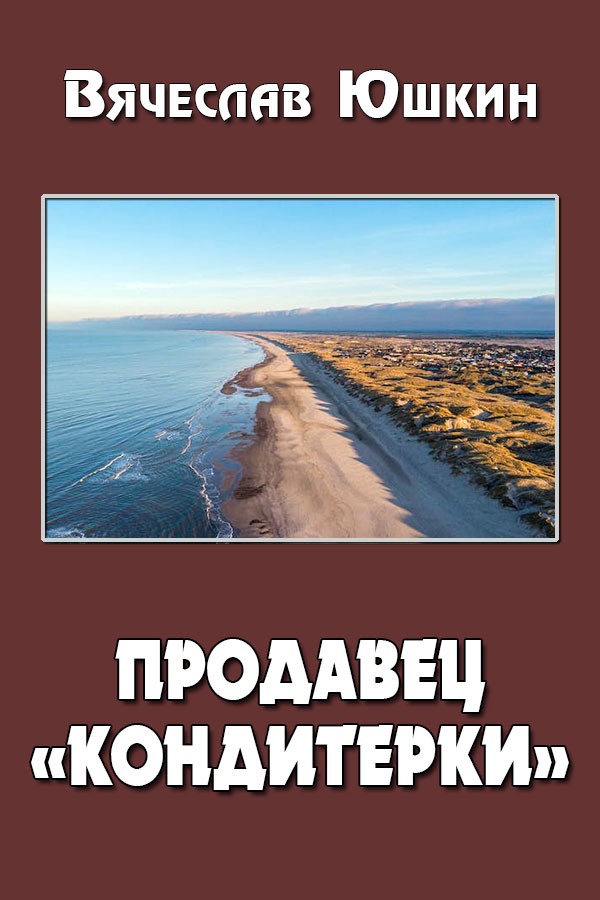Никогда войска не хотели так драться, и, конечно, имея 50 тысяч, мы 80-ти не боимся. Итак, без выстрела мы отдали Польшу. Завтра государь с армией [будет] за Двиной. У нас вчерась первая была стычка. Три полка кавалерийских насунулись Платова. Платов их истребил. Начало прекрасное. Государь пишет, что все силы и сам Бонапарте устремлен на нас. Я сему не верю, и мы не боимся. Если это [действительно] так, то что ж делает первая армия?…
Что предполагает государь — мне неизвестно, а любопытен бы я был знать его предположения. У него советник первый Фуль — пруссак, что учил его тактике в Петербурге. Его голос сильней всех. Общее мнение, что есть отрасли Сперанского намерения. Сохрани Бог, а похоже, что есть предатели'.
Как видим, страна к войне оказалась не готова, в войсках в первые ее дни царило полное непонимание того, что происходит. Войск было много, но все они стояли на большом расстоянии друг от друга, и никто толком не знал, кто куда должен идти. Русские генералы видели главную причину всего этого в окружении императора Александра, взявшего на себя верховное главнокомандование, несмотря на то что никогда не служил в действующей армии. А его главная квартира «была битком набита знатными бездельниками».
Достаточно назвать такие фамилии, как Армфельд, Вольцоген, Штейн, Паулуччи и т.д. Но, пожалуй, главной проблемой был прусский генерал Карл-Людвиг-Август фон Фуль (или, как иногда неправильно пишут, Пфуль), упомянутый генералом Раевским. Историк Дэвид Чандлер совершенно справедливо называет Фуля «последним по старшинству и по способностям». Но зато он был в большом фаворе у императора Александра и фактически в начале войны играл роль его «серого кардинала».
Служащий Петербургского почтамта И. П. Оденталь с недоумением обращался к московскому почт-директору А. Я. Булгакову:
«Мы здесь ничего не знаем, ничего не понимаем… Мне уж представляется, что Бонапарте задал всем действующим лицам нашим большой дозис опиума. Они спят, а вместо них действуют Фули, Вольцогены. Проснутся — и увидят, кому они вверили судьбу нашу. Сюда прибыл еще Штейн. Вот еще детина! Что ж нам прикажут, несчастным, делать? Увы — воздыхать! Есть уже разные слухи о Фуле».
Надо было быть полным безумцем, чтобы взять таких людей себе в военные советники, но император Александр сделал это. В результате под руководством таких «специалистов» в русской армии штабы погрязли в мелочах и волоките, но самым острым был недостаток вооружения — и по количеству, и по качеству. Как отмечает историк Н. А. Троицкий, «неповоротливость казенных ведомств, безалаберность частных заводчиков срывали выполнение военных заказов». Что же касается основной части офицерского состава, то она, по оценке Дэвида Чандлера, «была ленива, малограмотна, не имела нужных навыков и предавалась пьянству и азартным играм».
Относительно генерала фон Фуля следует сказать, что его главным детищем был Дрисский лагерь, который по его инициативе был создан перед самым началом войны в излучине Западной Двины, между местечком Дрисса (ныне это город Верхнедвинск) и деревней Шатрово. В него, согласно плану Фуля, должна была отступить первая русская армия, а вторая в это время должна была действовать во фланг и в тыл Наполеона. Как говорится, гладко было на бумаге…
М. Б. Барклай де Толли, как пишет в своих «Записках» генерал А. П. Ермолов, нашел в этом лагере следующие серьезные недостатки:
«Многие части укреплений не имели достаточной между собою связи, и потому слаба была взаимная их оборона; к некоторым из них доступ неприятелю удобен, сообщение между наших войск затруднительно. Были места близ лагеря, где неприятель мог скрывать свои движения и сосредоточивать силы. Профили укреплений вообще слабы. Три мостовые укрепления чрезмерно стеснены, профили так худо соображены, что с ближайшего возвышения видно в них движение каждого человека».
Короче говоря, это была полная катастрофа, а не укрепленный лагерь, который должен был задержать наступление Наполеона. В результате Барклай был возмущен, а генерал Ермолов написал:
«Все описанные недостатки не изображают еще всех грубых погрешностей, ощутительных для каждого, разумеющего это дело».
Вывод военного историка М. И. Богдановича однозначен:
«Укрепления Дрисского лагеря, стоившие значительных трудов и издержек, не могли служить к предположенной цели — упорной обороне и действиям на сообщения противника. Напротив того — войска, занимавшие укрепленный лагерь, подвергались опасности быть разбитыми либо обложенными предприимчивым противником».
Первый адъютант Барклая полковник А. А. Закревский писал в начале войны генералу М. С. Воронцову:
«Мы бродили быстро и отступали еще быстрее к несчастной Дриссенской позиции, которая, кажется, нас приведет к погибели. По сих пор не могут одуматься, что предпринять; кажется, берут намерение к худому. Проклятого Фуля надо повесить, расстрелять и истиранить яко вредного человека нашему государству».
А вот мнение секретаря императрицы Н. М. Лонгинова, выраженное им в одном из писем к графу С. Р. Воронцову:
«Некто Фуль, который принят из Пруссии в нашу службу генерал-майором, был творцом нашего плана войны. Человек сей имеет большие математические сведения, но есть не иное, как немецкий педант и совершенно имеет вид пошлого дурака. Он самый начертал план Йенской баталии и разрушения Пруссии… Многие не без причины почитают его шпионом и изменником. Кто и как его сюда выписал — неизвестно, только он после Тильзита здесь очутился. О плане его и говорить нет нужды…»
Конечно же, М. Б. Барклай де Толли энергично и авторитетно выступил против дрисской затеи «шпиона и изменника». В ответ на это Фуль обиделся и уехал в Санкт-Петербург.
Глава 7
Багратион был вынужден подчиняться Барклаю как военному министру. Пожалуй, никогда в истории русской армии подчинённый не относился к командующему с таким презрением. «Подлец, мерзавец, тварь Барклай», — так ласково называл военного министра любимый ученик Суворова.
Фортуна отвернулась от Багратиона: в то время император относился к нему с предубеждением, все спорные ситуации он трактовал не в пользу самого популярного генерала русской армии. Любимая сестра Александра — великая княгиня Екатерина Павловна — и до, и после замужества была влюблена в Багратиона (кстати, её муж — принц Ольденбургский — уйдёт из жизни почти одновременно с Багратионом). Государя это раздражало. Грузинского князя, у которого в Петербурге было немало поклонников, но не меньше и врагов, отдалили от двора. Но, конечно, одним этим всего не объяснишь… Император писал Екатерине Павловне: «Убеждение заставило меня назначить Барклая командующим 1-й армией на основании репутации, которую он себе составил во время прошлых войн против французов и против шведов. Это убеждение заставило меня думать, что он по своим познаниям выше Багратиона. Когда это убеждение ещё более увеличилось вследствие капитальных ошибок, которые этот последний сделал во время нынешней кампании и которые отчасти повлекли за собой наши неудачи, то я счёл его менее чем когда-либо способным командовать обеими армиями, соединившимися под Смоленском. Хотя и мало довольный тем, что мне пришлось усмотреть в действиях Барклая, я считал его менее плохим, чем тот, в деле стратегии, о которой тот не имеет никакого понятия». Приговор строгий и несправедливый. Между тем, в Европе мало кто сомневался, что лучшим русским полководцем является именно Багратион. После Прейсиш-Эйлау многие зауважали ещё и Бенигсена, но о Багратионе Европа помнила с 1799 года. Он сражался под командованием Суворова в непобедимой русской армии XVIII века. Он был героем неудачной для антинаполеоновской коалиции европейской кампании 1805 года: прикрывал отступление русской армии. «Лечь всем, но задержать Бонапарта!», — такой приказ исполнил Багратион с шеститысячным корпусом храбрецов. Сражаться пришлось против почти тридцатитысячной армии. Но Багратион продержался, а потом прорвал окружение и присоединился к армии Кутузова. Да не просто присоединился, а по-суворовски: привёл с собой пленных и трофеи. Блестящий триумф!