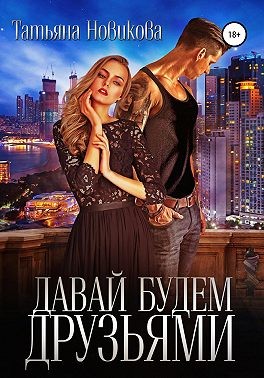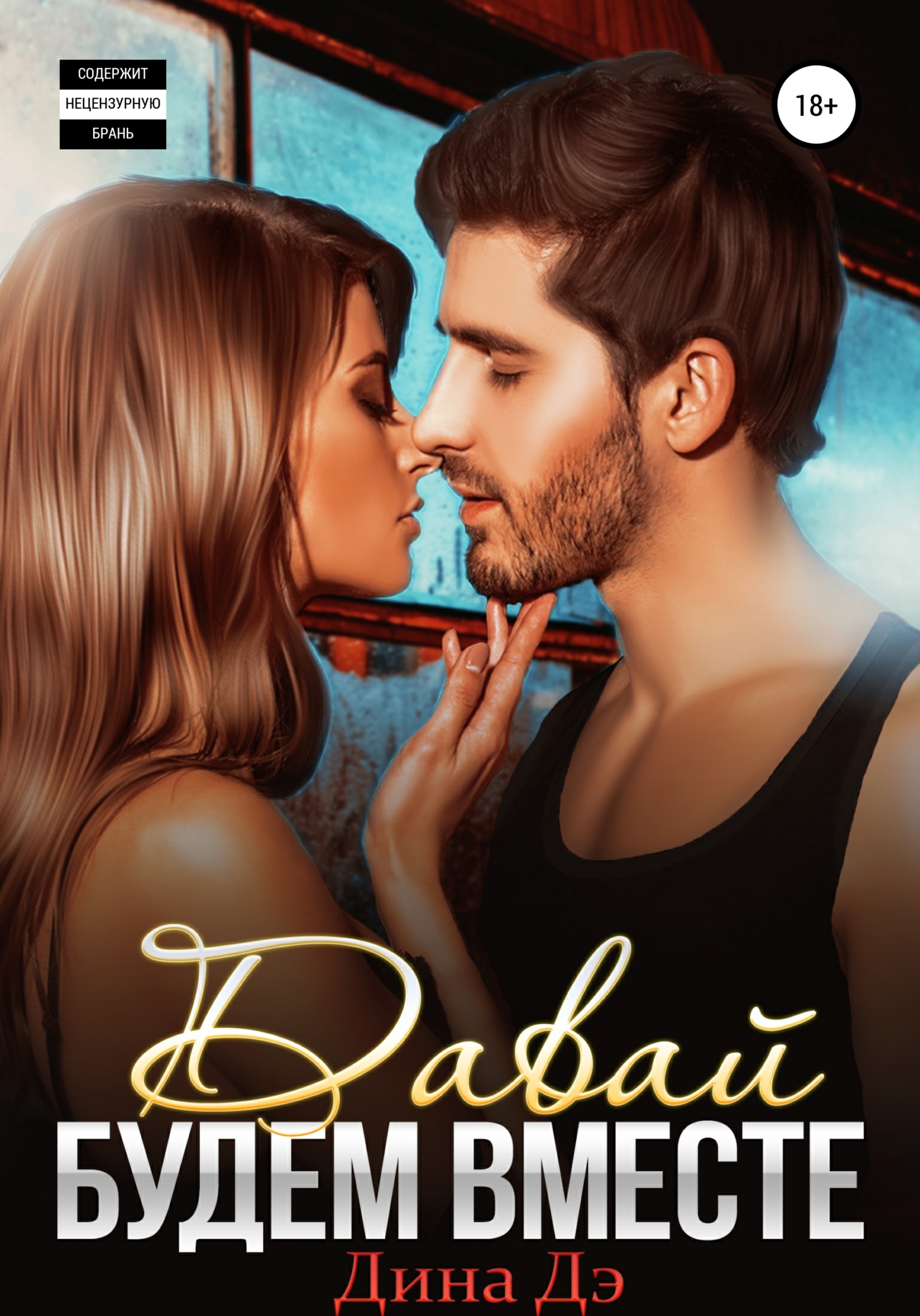Нынешние студенческие нравы, бесспорно, отличались от тех, что я помнил. Чем-то походили на ту строгость (дежурные на каждом этаже!) и стерильность (блестящий чистотой пол!), что мне привиделись при посещении общежития младшего сына. Никаких окурков на полу, никаких следов от разбрызганного винегрета в коридорах на этажах утром, никаких следов крови на стенах после ночных драк. В жизни нынешних студентов едва ли не полностью отсутствовало всё то, что раньше мне виделось естественной частью общежитской атмосферы.
Мне казалось странным и необъяснимым, что при нынешних скромных габаритах я пока ни разу не стал объектом для издевательств со стороны сверстников. За почти неделю моей жизни в общежитии никто не пытался набить мне морду, чтобы показать собственную крутость. Не делали попыток «отправить меня за водкой» — ни один первый курс на моей памяти (в девяностых) не избежал таких нападок. Я не заметил, чтобы озлобленные старшекурсники вламывались в чужие комнаты — разыскивали украденные у них вещи.
«Ну, прямо настоящий коммунизм, — думал я, — в отдельно взятом корпусе общежития. Торжество справедливости, равенства и братства. Ещё бы советские студенты научились смывать после себя в туалете — цены нынешним комсомольцам не было бы».
Я видел, что и в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году в студенческом общежитии проживали обычные, нормальные люди — каждый со своими заскоками и причудами. Слышал от жаривших на кухне картошку парней «грязные» словечки; не однажды был свидетелем споров «на повышенных тонах»; и даже стал объектом злой шутки: пока мылся в душе, кто-то завязал узлом мою майку. Но после прошлой моей бурной студенческой жизни — все эти выходки советских студентов выглядели «детским лепетом».
«Но было весело», — подумал я, вспоминая студенческую жизнь в девяностых. Тогда мы с соседями по комнате ещё не протрезвевшими являлись на лекции — спали, спрятавшись после переклички на дальних рядах аудитории. Пели вечерами под гитару песни. Целовались с подружками. Да и не только целовались — оставляли девчонок в комнате на ночь или сами ночевали в первом, женском, корпусе. Весело было! С тех славных времён на моём прошлом теле оставались следы трёх переломов, выбитые в драке зубы и шрам на животе от ножевого ранения.
Спросил сам себя: «Хотел бы я повторения тех дней?»
И ответил: «Нет, пожалуй: обойдусь без того веселья».
* * *
Будёновку я натянул на голову, едва на сотню шагов отошёл от автобусной остановки. Хотя мог бы этого пока и не делать. Не видел на улице прохожих (раннее воскресное утро). Да и они бы меня не разглядели: на пути от проспекта Гагарина до улицы Александра Ульянова не светил ни один фонарь. Дорогу мне освещала лишь большая луна, что застыла на безоблачном небе, да редкие «лампочки Ильича», светившие во дворах — «частный сектор» просыпался раньше города даже по воскресеньям.
В доме Пимочкиных окна не светились — двор тоже прятался в предрассветном мраке. Мне вспомнились вчерашние пирожки. С голодухи они показались сказочно вкусными! А вот Светкин поступок меня насторожил. Знал, что Пимочкина с подружками на выходные разъехались по домам — потому что все три девчонки, что жили вместе в комнате, были местными, зареченскими. Получалось: Светка не усидела дома, накупила пирожков и рванула вчера ко мне. С чего бы это? Ведь не лечить же она меня ехала.
Попытался вообразить, какие чувства должна была испытывать к мужчине женщина, чтобы пожертвовать отдыхом с семьёй, потратить на пирожки рубли (и десять копеек на проезд туда-обратно), рвануть через весь город... чтобы полчаса простоять на вахте. Представить себя на Светкином месте не смог. Никогда не был импульсивным — предпочитал проделывать всё «с чувством, с толком, с расстановкой», никогда не бегал за девчонками: не видел в том надобности (напротив — от назойливых дам иногда приходилось отбиваться).
— Но за пирожки, всё равно, спасибо, — пробормотал я, снова бросив взгляд на тёмный силуэт дома семьи Пимочкиных. Мысленно пообещал себе (в очередной раз), что обязательно наведаюсь к Людмиле Сергеевне в гости — несмотря на то, что официально придётся объявить: пришёл к её старшей сестре. Но… сделаю это после двадцать пятого января. Когда пойму: надолго я в этом мире и времени или же всего лишь выполняю здесь определённую миссию (всё чаще думал о том, что угодил в эдакое… чистилище).
Миссию на сегодняшнее утро я видел чётко. Переключился на мысли о ней. Прислушивался, подходя к дому Рихарда Жидкова. Но кроме стрёкота сверчков от дома Каннибала не доносилось ни звука: не звенела цепь, не лаял и не рычал пёс, не царапали камни собачьи когти. Не расслышал я и человеческих шагов, звяканья посуды или орудий труда. Однако над входной дверью дома светился фонарь (уже или ещё?). Вокруг него беззвучно кружили разнокалиберные насекомые. Свет фонаря отражался на пыльной поверхности оконных стёкол.
Я прошёлся вдоль забора, заглядывая сквозь щели между досками во двор Рихарда Жидкова. Спит хозяин дома или уже бодрствует — я не понял. Не услышал и возни пса. С дороги хорошо просматривалось лишь освещённое крыльцо — двор от меня прятали ветви кустарников и темнота. Калитку нашёл приоткрытой. Мне словно оставили намёк: проходи, не заперто. Приглашение в мышеловку. Я и хотел бы им воспользоваться. Вот только я вчера видел зубы местного четвероногого стража — не желал вступать с ним в схватку.
Намеренно скрипнул калиткой.
— Эй! — негромко позвал я. — Хозяин! Есть кто дома?
Входить во двор не спешил — напротив, готовился при малейшей угрозе со стороны пса отпрыгнуть от забора в сторону дороги: берёг штаны. Моя задумка сработала. Я не рассчитывал, что меня услышит Жидков — хотел лишь разбудить собаку. Услышал звериное рычание, звяканье цепи — потом во дворе раздался собачий лай: сперва неуверенный, будто-то пёс пока не понял, действительно ли услышал голос чужака, или тот ему приснился. Новый скрип несмазанных петель калитки придал лаю уверенности.
Хриплый, мощный лай в утренней тишине звучал оглушающе громко. Я спешно отгородился от двора калиткой. Ждал, что вот-вот замечу несущуюся мне навстречу тень, увижу массивную собачью фигуру. Услышу удар мощных лап о доски забора, шумное звериное дыхание, лязг зубов. Не удержался — попятился. Затаил дыхание. Всматривался в темноту, ожидая, что вот-вот отражение лунного диска блеснёт в собачьих глазах. Так этого и не дождался. Лай и перезвон звеньев цепи не умолкали. Но и не приближались.
Я не услышал, как распахнулась дверь дома. Казалось: лишь моргнул… и вот уже благодаря жёлтому свету лампы увидел на крыльце щуплую фигуру Рихарда Жидкова. Мужчина появился беззвучно. В одном лишь белье. Вертел головой — оглядывался по сторонам. Взглянул он и в мою сторону. Но вряд ли меня заметил. Поправил трусы, скрывавшие ему ноги едва ли не до колен, одёрнул майку, шаркнул башмаками. Нахмурился, сплюнул. Жестом пригрозил… не мне — кому-то, прятавшемуся за стеной сарая, в темноте двора.
— Тихо! — скомандовал знакомый голос.
Собачий лай сорвался на жалобный визг и вдруг смолк. Ему на смену пришло едва слышное поскуливание. Звякнула цепь, цокнули о камни звериные когти. Ветер зашелестел листвой, заставив меня вздрогнуть: футболка для прохладного осеннего утра оказалась тонковатой — невольно вспомнил о лежавшем в чемодане свитере. Я кашлянул, привлекая к себе внимание. Жидков дёрнул головой, повернулся ко мне лицом; прищурился, вглядываясь в темноту за забором.
— Кто там?! — спросил он.
Я помахал ему рукой.
— Дядечка, это я — Вадик Кашин из Каплеевки! Я за чемоданом пришёл!
Не уверен, что хозяин дома рассмотрел меня сквозь кусты. Фонарных столбов около дома Рихарда Жидкова не было. А луна хоть и выглядела яркой, но в качестве фонаря не годилась.
Но голос мой мужчина точно узнал.
— Что-то ты рано, юноша. Ночь на дворе.
Он провёл ладонями по майке на животе.