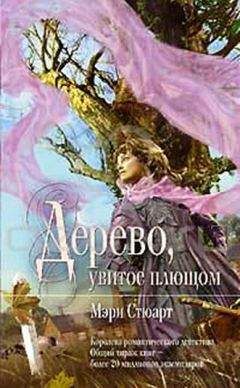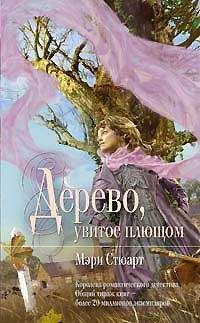Впрочем, я отвлекся.
Что самое неприятное в полете? Нет, не страх высоты, не головокружение, не укачивание. Самое неприятное — это приземляться. Особенно, когда порхаешь не по своей воле, и полет не контролируешь. А посадка выдалась неласковой, однако ж, не смертельной — спасибо силе магии, моей кошачьей ловкости, и, главное, отдельное спасибо благородному кусту, принявшему на себя всю тяжесть моего положения, и отдавшему, таким образом, жизнь за правое дело. Злыдень же не унимался, продолжая снабжать меня всякими ненужными мне предметами — вроде метательных ножей, каких–то игл и звездочек причудливой формы. Купол защитил мой организм от появления в нем новых, не предусмотренных природой отверстий — и кончился. Вернее, это я снял с него подпитку — маны осталось не так много. Мало осталось, чего уж там — бесполезно его держать, если от любого чиха в мою сторону купол лопнет. Буду надеяться на «шкуру» — уж от метательного оружия защити, главное, рожу не поставлять.
Окончательно проморгавшийся от вспышки злодей, видимо, решил нести мне разумное, доброе, вечное более конкретно, и, в свою очередь продемонстрировал, что делан не пальцем, а ниндзюцу для него не пустой звук. Сложив несколько печатей (быстро у него получилось, однако!), он поднес свои культяпки к роже, и выдудел здоровенный сгусток огня в мою сторону. Я не стал защищаться — зачем тратить энергию, когда можно просто увернуться, махнув на пяток метров в сторону (то ли дело сражения в прошлой жизни, когда от подобных гадостей надо защищать, к примеру, строй пехоты — они–то уворачиваться не могут).
Еще немного маны — подарок от противника, пришлись кстати. А вот то, что этот хитрый мерзавец не останется на месте, создавая очередную магическую пакость, а прыгнет сразу, дабы свести дело к ближнему бою — я пролопушил (никак не привыкну к скорости супостата).
Ничего, умнее буду.
Если жив останусь.
Возникшая прямо передо мной фигура, затянутая в когда–то удобный костюм из черной материи, а ныне — в обгорелые тряпки, стала не то, чтобы неожиданностью, но радости мне это, воняющее паленым, явление, не доставило.
Удары мы нанесли одновременно.
Он — три режущих удара своим коротким мечом, я — один, на отшаге — кистенем.
Он — попал тремя же ударами. Я — соответственно, одним.
Три неглубоких пореза — думаю, что вражина ожидал несколько более впечатляющего результата (вроде валящегося на землю всего такого мертвого меня, заливающего землю кровищей и корчащегося в предсмертных судорогах, и зовущего маму…), а вот увесистая гирька, прилетевшая с неожиданных угла и дистанции ему в колено — явно стала для него неприятным и очень болючим сюрпризом.
Попал, хорошо попал — гирька кистеня, если с маху, проминает хорошую кирасу — ни одной не встречал, чтоб не погнулась, куда уж там человеческим костям, а колено — такая хрупкая вещь…
Впрочем, противник, лишь зашипев, переместил вес на здоровую ногу, и рубанул мечом — навстречу моему повторному взмаху — я чуть не остался без руки, а тросик кистеня оказался перерубленным.
И снова, следующий ход мы сделали одновременно.
От удара торцом рукояти меча в лоб, у меня из глаз посыпались звезды, а в ушах зашумело — но молния, из последних крох маны попала, почти что куда надо. Почти — это потому, что метился я в левую сторону груди, а попал в плечо.
И сам получил ответку, да такую, что мало не показалось.
Примерно на ладонь, меч этого урода, просадив «шкуру», погрузился мне в живот.
Да, вот и все…
Жаль… Я ничего не успел, ни в прошлой жизни, ни в этой. Дали дураку второй шанс — и его просрал…
Как глупо.
Как обидно…
Кто–то рассказывал, как в минуту смертельной опасности, перед глазами проносится вся жизнь. Вспоминаешь все, даже то, что давно и прочно забыто.
Раньше я смеялся над подобными россказнями — но теперь сам испытал нечто подобное. Нет, не вся жизнь, а лишь один эпизод промчался перед глазами.
Счастливое беззаботное детство, в прошлой жизни.
Мой друг…
Донни. Улыбчивый чернявый парнишка, чуть старше меня. Тощий и вертлявый, как и я, в общем то. С его вечно чумазой рожи никогда не сходила ухмылка, и неважно, насколько нам было сложно — мокли ли мы в нашей конуре с дырявым потолком во время непогоды, или убегали от базарной стражи — он не умел унывать. Мой единственный настоящий друг… Я уже не помню, когда и как мы с ним познакомились, но сдружились практически сразу — кусок заплесневелого хлеба, отнятого у крыс на помойке, несколько монет или яблок, украденных на рынке или тумаки от нищих постарше — все было поровну. Если бы у меня был бы брат — я хотел бы, чтобы он был похож на Донни.
Дьявол, не иначе, дернул нас тем по–настоящему поганым днем залезть в лавку жирного Сэмми — тот торговал различной немудреной снедью (хлеб, пироги, сушеное мясо, крупы, овощи) и всякой ерундой, для домашнего хозяйства. Видимо, пара удачных дел в один день, когда нам удалось обчистить какого–то зеваку на рынке (пускай в его кошельке было всего лишь полтора десятка медяков, но нам и это казалось богатством) да украсть настоящее одеяло, почти новое, в лавке старьевщика, придали нам уверенности, и мы полезли к Сэмми, уж больно вкусно пахла его выпечка, выложенная на лотках. Этот запах сводил с ума, дразнил воображение, и нам казалось, что вкуснее тех пирогов с требухой и свежего хлеба ничего на свете и не бывает. Тратить, правда, на это монеты было жалко до безумия — деньги мы откладывали на черный день, на то время, когда удача от нас отвернется и не удастся ничего найти, или украсть (а такое случалось частенько).
И мы решили, что раз уж удача сегодня с нами, отпраздновать это Сэмовой выпечкой.
Тихонечко, вдоль стены — проникнуть в лавку — ее дверь широко распахнута. Жирный Сэмми, стоящий боком ко входу в лавку, вроде бы занят разговором с какой–то дородной теткой и ее муженьком, и более ни на что внимания не обращает. Я одним рывком, с низкого старта, добегаю до лотков, хватаю, до чего руки дотягиваются — какая–то лепешка и каравай вроде бы, и мчусь к выходу — сегодня наш день! За мной Донни — его улов тоже богат, сзади слышу дикий рев Сэмми. Я быстро бегаю, а с такой добычей буду еще быстрее. Какой–то грохот сзади, звучный шлепок — оглядываюсь на бегу — Донни… Он запнулся о порог лавки и со всего маху растянулся на дороге, здорово приложившись о булыжники, которыми она была вымощена, пироги, которые он прижимал к груди, раскатились по сторонам. В дверном проеме появляется жирный Сэмми, проявивший неожиданную для такой туши резвость, и, не останавливаясь, с размаху пинает своей огромной ножищей моего друга в бок. Я вижу, как тощее тело Донни подлетело от удара и перевернулось, а Сэмми бил еще и еще, наносил удар за ударом, по голове, телу пацана, пока мальчишка не перестал шевелиться…
Донни прожил еще четыре дня. Жирный ублюдок повредил ему позвоночник и отбил внутренности, а за те жалкие гроши, которые у меня были, травники и аптекари, те которые были в нашем квартале и в соседних — помочь отказались. Он ненадолго приходил в сознание, что–то шептал пересохшими губами и постоянно просил пить, смотрел на меня своими голубыми глазами — но не видел уже ничего. Мой друг умирал, а я ничем не мог ему помочь.
В ночь на пятый день я снова остался один.
Денег, которые мы с ним накопили, едва хватило, чтобы оплатить место на кладбище. Плевать на них — мой друг не будет похоронен в канаве или на помойке, он достоин большего, чем быть закопанным в грязи на свалке, как любой другой обитатель трущоб. Пьяный кладбищенский сторож, ворча, забрасывал могилу землей, а я стоял и молча смотрел на место, ставшее последним приютом для моего единственного друга. Потом упал на колени, и плакал, как девчонка, первый и последний раз в жизни, пока слезы горя не превратились в слезы ярости. Прощай, друг. Надеюсь, тебе хорошо, там, где ты сейчас, может быть, на том свете свидимся…
Длинный крепкий толстый штырь со шляпкой на одном конце, я когда–то нашел его в порту — не знаю, для чего он предназначен, но лучшего оружия у меня не было. Я долго точил его об шероховатый булыжник, благо мягкое железо хорошо поддавалось обработке, пока острие не превратилось в некое подобие шила, и приделал импровизированную рукоятку, из какого–то барахла — лишь бы держалось.
Сэмми жил на втором этаже своей хибары — на первом располагалась его лавка. На ночь окна запирались ставнями, а толстая дверь — на засов. Такие меры предосторожности в нашей части города были куда как не лишними — беспечные и доверчивые жили тут плохо, и порой, недолго, но я не собирался лезть в двери, моей целью было круглое окошко под самой крышей, ведущее на чердак. Маленькое — взрослому ни за что бы не пролезть, но тощему как скелет ребенку оно не преграда — лишь бы голова пролезла, а остальное — легко. С крыши — в окошко, с чердака — на второй этаж, а дальше — на звук заливистого храпа. Я до сих пор помню эту сытую харю, сопящую и пускающую во сне слюни — лицо убийцы моего друга. От ненависти у меня сводило скулы, и я воткнул ему свое импровизированное оружие в глаз, на всю длину, навалившись на него всем телом — храп прекратился, и больше Сэмми не издал ни звука, лишь конвульсивно дернул ногами. Туда тебе и дорога, гнида, надеюсь, ты будешь гореть в аду.