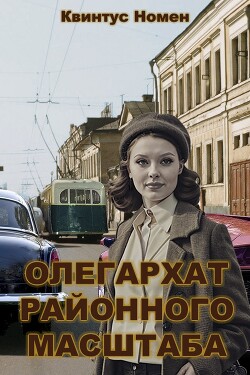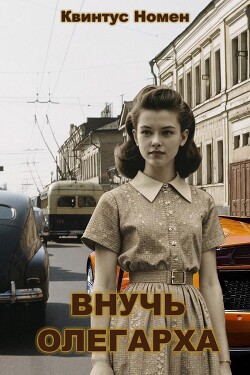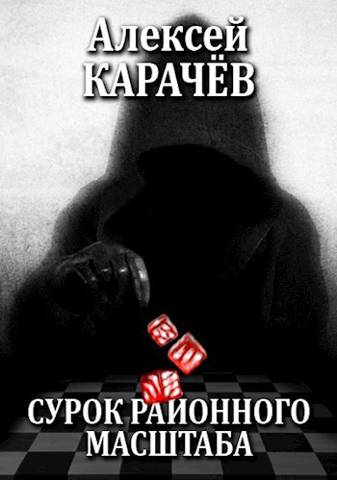Ну да, выкройки она считала как раз на Сережиной графической станции с использованием программ, как раз реализующих метод Канторовича по максимизации линейной системы уравнения с многими переменными — но чтобы детали выкройки начать располагать, нужно их сначала придумать, а это Оля-маленькая и проделала. Ну а в трест ее выкройки я, конечно, отнесла, ведь это было самыми что ни на есть «передовыми технологиями» и полностью соответствовало профилю Комитета. Конечно, Оля работницей Комитета все же не была, то это даже было лучше, лично для Оли лучше…
Оля большая (то есть сестра-бабуля) в шестьдесят третьем тоже разжилась орденом, за хорошее руководство Благовещенским филиалом Уфимской фармфабрики. За очень хорошее руководство: филиал выполнил план по производству «сложных лекарственных препаратов» примерно на восемьсот процентов. Правда, для достижения таких результатов нужно было и немало нового оборудования изготовить, и я сестренке в этом помогла. То есть оборудование делалось на «придворном заводе», а его проектирование и разработку всей нужной автоматики провели парни из сто шестидесятого института во Фрязино, причем когда я к ним привела Олю и сказала, что это нужно для советской фармакопеи, они с Комитета даже не стали «вымогать» очередных плюшек в виде постройки чего-то институту или городу нужного, так что мое участие свелось к тому, что я фрязинцам выписала «проездные» на самолеты «Местных авиалиний» до Благовещенска. Имела право, ведь авиакомпанию так из под формального подчинения Комитету и не вывели…
Мама, которая нас в Москве посетила впервые, долго охала по поводу размера нашей квартиры, причем в основном сокрушалась по поводу того, что «сколько же здесь убираться-то надо». Однако это было единственной ее «претензией», а все остальное ей понравилось. И нам всем очень понравился такой семейный Новый год. А первого января, в среду, был общесоюзный выходной, и поэтому на работу можно было не к девяти бежать, а только к десяти… Но бежать пришлось: это у обычных людей выходной — это когда они не работают, а вот у руководителей все было несколько иначе — и уже в половине одиннадцатого мне позвонил Николай Семенович:
— Светик, поговорить нужно, ты через полчаса на работу придти успеешь?
— Николай Семенович, что у нас такого случилось, что до завтра подождать не может? Или вы просто за работой забыли, что Новый год наступил?
— Ничего я не забыл! Да и случилось… ничего особо серьезного, но вот подождать можно было бы до завтра, но не нужно. Николай Александрович приболел…
— Что с ним?
— Да ничего серьезного, но ты же знаешь нашу медицину: говорят, переутомление у него… можно подумать, что все остальные у нас не утомляются. В общем, он подписал постановление о то, что я его в должности предсовмина замещаю на месяц. А там, я посмотрел, работы уже столько, что… понятно, отчего он переутомился. Но ведь и остальную работу забрасывать нельзя, а я все уже не потяну. Поэтому есть мнение — и Николай Александрович его поддержал — временно тебя назначить исполняющим обязанности первого моего зама.
— Ну, поездить по городу на «Чайке» я как бы и не против, а вот как насчет остального?
— А остальное будет примерно то, чем ты и так сейчас занимаешься. Только прав у тебя будет побольше… ну и ответственности.
— А вот ответственности мне лишней не надо, так что я отказываюсь.
— А тебя, Светик, никто и не спрашивает, Николай Александрович приказ уже подписал, и приказ этот с Пантелеймоном Кондратьевичем согласован. Так что я сейчас на работу еду с дачи, и к тебе заехал по дороге, чтобы с собой тебя захватить: дела-то самые срочные передать надо, тебе ими уже с завтрашнего утра заниматься придется.
— А по телефону этого сказать нельзя было? Я бы хоть оделась как большая начальница, позавтракала бы посытнее…
— В конторе позавтракаешь, а одета ты и так как принцесса какая заморская. Приказ был подписан не для публикации, по министрам его уже действительно завтра доведут, а сегодня о нем четыре человека только знают. Пять, сдается мне, что Павел Анатольевич твоей Елене Николаевне о нем сообщил.
— С чего бы это?
— С того, что во дворе уже стоит усиленный эскорт этих ее амазонок. И мне почему-то кажется, что просто так не стала бы она своих девиц первого числа по тревоге поднимать… Ну что, поехали?
Домашним, я конечно же, позвонила и предупредила, что «много работы, буду поздно», но все равно вечером Сережа высказал мне свои претензии. И даже не потому, что в аэропорт он Олю с мамой отвозил, тут и ехать-то было минут пять. А потому, что всё, что мы наметили сделать за этот дополнительный выходной, сорвалось: и в театр мы не сходили, и с Васей в зоопарк… Но когда я ему сообщила, что весь январь буду вкалывать на позиции первого зампреда Совмина, он тяжело вздохнул и, как мог, пожалел:
— И за что тебя так? Там что, мужиков уже вообще не осталось?
Мужики-то остались, но те, кто меня выбирал, тоже головой думать умели. Николай Семенович на своей работе первым замом курировал в основном министерства «девятки», а с их проблематикой я была знакома довольно неплохо. К тому же большая часть задач, которые курировал товарищ Патоличев, касалась внедрения на предприятиях девятки новейших технологий. Ну, не большая часть, а почти половина — но половина этой половины вообще шла по программам КПТ, так что мне в них вникать даже не требовалось.
Еще одной причиной, по которой на эту должность меня выбрали, была связана с тем, что на большинстве предприятий «девятки» уже были установлены «бухгалтерские компы», которые не только зарплаты считали и отделы кадров информацией поддерживали, к тому же в Европейской части страны и большей частью на уральских предприятиях все компы были объединены в глобальную (то есть в рамках СССР глобальную) сеть, но пока почти никто так и не понял, как с ней работать. А я это знала, и Николай Семенович надеялся, что за месяц я смогу там хоть кого-то научить с ней обращаться. Правда, сам он не научился и за полгода, но искренне считал, что это потому, что он «уже старый и поздно ему учиться». Но ведь он и секретариат свой даже обучать не начинал!
Но в любом случае выбора у меня не было: раз запрягли, то нужно везти. А так как я знала, куда везти и как при этом не надорваться…
Василий Степанович Соболев первого января тоже отпраздновал на работе. То есть Новый-то год он провел, как почти все советские люди, в кругу семьи и первого на работу оправился ближе к полудню — но как раз «ближе к полудню» на работу прибежало уже несколько сотен человек. Однако люди на работу все же прибежали не для того, чтобы работать, а чтобы еще больше праздновать: а полдень состоялся пуск новенькой ГАЭС. Не большой Нижнебобинской, а маленькой, «почти игрушечной»: в двенадцати километрах к югу от Большеустьинска на реке Ай тоже был неплохой такой пригорочек, и там в качестве «демонстратора технологий» за счет бюджета района при одобрении и существенной поддержке энергетиков была выстроена ГАЭС поменьше, мощностью всего в двадцать два мегаватта. Четыре мотор-генератора для нее были изготовлены в Спасске-Дальнем, турбины небольшие (а на стометровом перепаде для пятимегаваттника большие и не требовались) были изготовлены на «дворовом заводе» в Москве, котлованы водохранилищ были вырыты «своими силами» (они тоже размерами воображение не поражали) — и теперь днем в районе стало доступно электричество уже не впритык, а с некоторым запасом. Даже с приличным запасом: станция и строилась, имея в виду обеспечение энергией нового завода по выпуску «типовых ГЭС».
Правда, если считать и потребности «плазмотронного цеха», то и запаса этого могло быть недостаточно — однако ЛЭП от Свердловска уже запустили, по ночам электричество было доступно в неограниченных количествах, так что плазмотроны можно будет и по ночам гонять. Ну, по крайней мере первое время…
А новый завод теперь будет с электричеством, и уже в марте по плану выпустит первую «типовую ГЭС». Оказывается, они действительно стране требуются в огромных количествах, завод еще не достроен даже, у заказов на такие ГЭС уже больше сотни пришло. Причем ладно бы корейских: с корейцами Светлана Владимировна уже довольно давно об этом договорилась и корейские товарищи точно знали, что такое производство намечается. Но вот откуда о стоящемся заводе КПТ узнали многочисленные товарищи из республик Кавказа, было совершенно непонятно. И ведь узнали-то даже не руководители в этих республиках, с заказами приезжали и представители районов, и — даже в большем количестве — председатели колхозов каких-то. И ведь каждому колхознику приходилось объяснять, что в горах просто дамбу земляную насыпать будет недостаточно, нужно строить хоть и маленькую, но каменную плотину — в потом долго и нудно рассказывать, что завод проектированием плотин не занимается и заниматься не будет, поэтому если кто-то очень хочет приобрести такую ГЭС, то приезжать на завод нужно с готовым проектом этой плотины, причем составленным имеющими официальное разрешение на такое проектирование организациями. А затем еще и объяснять, что за взятки вообще-то тюремный срок полагается…