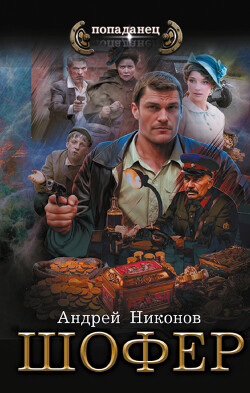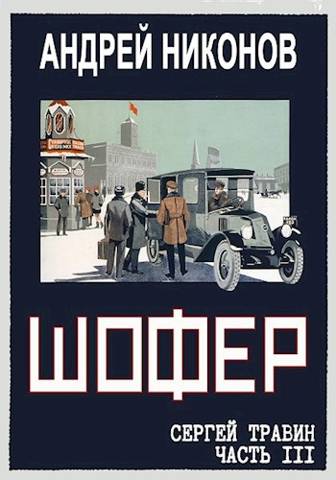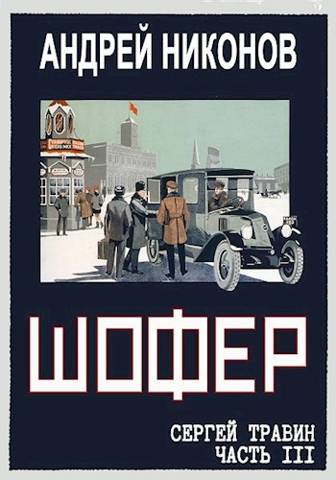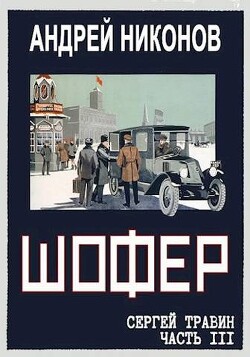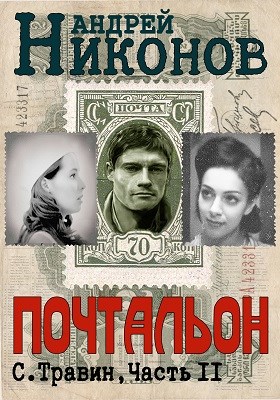В доме, помимо двух комнат, была небольшая кухня и просторные сени, удобства находились во дворе, там же стояла бочка, которую водовоз наполнял за серебряную полтину, а дождь – бесплатно. Наниматель, Лев Иосифович Пилявский, представительный мужчина лет пятидесяти, невысокого роста, с торчащими в стороны от обширной лысины седыми волосами и внушительным носом, вооружённым толстыми роговыми очками, принимал учеников у себя в кабинете – большой комнате с окном, толстым ковром на полу и керосиновым освещением. Он сидел в кресле, сложив руки на объемном животе, напротив него девочка старательно водила смычком по струнам. Нюра Пахомова только что вернулась из лавки и выкладывала продукты на кухонный стол.
– Наденька, золотце моё, отдохни минутку, – Пилявский погладил ученицу по голове, забрал у домработницы сдачу и тщательно пересчитал, сверяясь с тетрадкой. – Что, приказчик опять не отпустил по нормальной цене топлёное масло?
– Господь с вами, Лев Иосифыч, – Нюра к скаредности хозяина успела привыкнуть, – и так хорошая цена, шесть гривенников за фунт, куда уж дешевле. Вы вона сколько с детишек берёте, да ещё в консистории жалованье плотют, а всё жмётесь, как будто на паперти стоите.
– На паперти, милочка, поболее моего получают, – Лев Иосифович тщательно проверил вес и количество продуктов, отрезал кружочек кровяной колбасы, понюхал с подозрительным видом, пожевал, для виду скривился. – Ладно, идите уже до пятницы. И чтобы не опаздывать.
– Да уж пойду.
Нюра уткнулась взглядом в переносицу Пилявского, тот попыхтел, но три рубля отсчитал, добавил ещё два рубля за стирку, отдал женщине свёрток с грязным бельём, выпроводил её из сеней и закрыл дверь. Золотце Наденька поиграла ещё с четверть часа, оставила полтора рубля и убежала. Пилявский не торопясь поужинал пирогами с капустой и наваристыми щами на мозговой кости, сложил посуду в таз и прикрыл полотенцем. Потом, скорее по привычке, пересчитал серебряные ложечки и фарфоровые чашки.
Больше двух учеников в день он не брал, мерзкие дети выматывали всю душу, насилуя беззащитный инструмент и издеваясь над учителем. Самым противным был мальчик лет двенадцати, которого он взял на позапрошлой неделе, этот приходил уже третий раз, в девять вечера, вместе с матерью. Она садилась на стул в углу комнаты и с благоговением смотрела на своего бездарного отпрыска. Перед первым занятием Пилявский заломил три рубля и подумывал увеличить плату до пяти – мелкий гадёныш не мог ни одной ноты сыграть правильно, способностей к музыке у него не было никаких совершенно. К тому же он ещё и косил левым глазом, и когда играл, глядя на струны скрипки, казалось, прямо на Пилявского таращился.
– Эмма Арнольдовна, счастлив видеть, – он распахнул входную дверь в четверть десятого, эта семейка всегда опаздывала. – А вы, юноша, мигом в мой кабинет, инструмент вас заждался.
Эмма, невзрачная женщина средних лет, благодарно кивнула, уселась на стул в углу, её сынок схватил скрипку, словно биту для лапты, и противно заскрипел смычком. Пилявскому очень хотелось оглохнуть, у мальчика явно проглядывали садистские наклонности. К счастью, через десять минут в дверь постучали, на время прервав пытку.
– Ой, – мама юного таланта подняла голову, – Лев Иосифович, это мой муж. Он так хотел посмотреть на Жоржика. Жоржик, это папа пришёл тобой восхищаться.
Пилявский поморщился. Муж Эммы Арнольдовны, по её словам, был ответственным работником наркомата просвещения и мечтал видеть сына великим композитором. Лев Иосифович совершенно не желал этого знакомства.
– Уже иду, – он изобразил слащавую улыбку, отпирая замок и отодвигая задвижку.
В сени, толкнув Пилявского в грудь, молча зашёл худой мужчина среднего роста с офицерскими усиками и в пальто, на щеке его виднелся уродливый шрам. Следом за ним в дом прошли ещё двое, в кожаных куртках, оба крепко сбитые и невысокие, похожие друг на друга словно братья. У одного из них ухо было изломано.
– Позвольте, вы кто? – Пилявский посмотрел на Эмму, та как ни в чём не бывало сидела на стуле, ссутулив спину и уткнувшись взглядом в окно. – Что себе ваш муж позволяет? Почему вы безобразничаете, товарищ?
– Ты смотри, артист, прям шапито представляет, – усатый встал посреди кабинета, заложив руки за спину, один из его подручных занял место у окна, второй – у двери. – Обождите-ка нас на кухне.
Эмма послушно встала, Жоржик швырнул скрипку на пол так, что та треснула, ткнул Пилявского смычком в живот.
– Нажрал пузо, лишенец, ничего, сейчас сдристнешь чутка, – малец мерзко хихикнул и вышел вслед за матерью.
– Что всё это значит? – Пилявский вздёрнул подбородок вверх. – Как вы смеете, я профессор филармонии. Сейчас же вызываю милицию.
Один из незваных гостей, караулящий у двери, подошёл сзади и пнул хозяина дома под коленки, а когда тот шлёпнулся на пол, приставил к горлу нож. Усатый с кривой улыбочкой осматривал кабинет, даже зачем-то пощупал ковёр.
– Бедно живёшь, скрипач, я уж думал, давно хоромы выстроили. Где Станислав? – наконец спросил он.
– Так вам брат мой нужен? Он умер четыре года назад.
– Вот значит, как, откинулся, гнида, а я поначалу думал, всё, сбежал пан Пилявский за границу с концами, плакали мои денежки, но потом кой-какой след нашёл, и по всей России его ищу уже несколько лет. Точно помер? А то ведь проверю.
– Да кто вы такие? На Немецком кладбище лежит, на четвёртом участке, хоть сейчас езжайте смотреть.
– И ничего не передавал для друзей своих? Деньги, к примеру?
– Какие ещё деньги? Если это ограбление, то возьмите в столе, и уходите, – Пилявский был напуган, но хорохорился и старался своего страха не показать.
Усатый кивнул, гость в кожанке споро обшарил ящики стола, нашёл в прикрытом фанеркой потайном отделении тощую пачку денег, пересчитал.
– Тридцать два червонца с мелочью, – доложил он.
– Большая сумма, не один день копил, – усатый подошёл поближе к Пилявскому и резко ударил того ногой в живот. – Куда твой брат золотишко девал, падла?
Хозяин дома открыл рот, хватая воздух, и тут же получил удар в ухо, потом его вздёрнули наверх и начали избивать, заткнув рот старым вонючим носком. Подручные усатого били умело, заставляя учителя музыки выть и извиваться, но до потери сознания не доводили.
– Оставьте его пока, – распорядился главарь через несколько минут, подошёл почти вплотную, схватил Пилявского за волосы, запрокинул голову, остриём ножа вытащил носок изо рта. – Ты уж припомни, скрипач, куда что он положил. Времени у нас много, а у тебя совсем мало. Что молчишь, рожа интеллигентская?
– Обделался он, – доложил один из подручных, – эй, гляди, глаза закатил, не ровён час помрёт.
– Так вы с ним поаккуратнее, – усатый засунул носок обратно, надрезал Пилявскому кожу возле глаза, подцепил кончиком лезвия. – Бережно.
* * *
Тридцатое отделение милиции располагалось рядом с пожарной частью в бывшем Сокольническом полицейском доме, построенном архитектором Геппнером, и охраняло население дачного московского района от бандитов, воров и прочих несознательных элементов. По сравнению с соседними, двадцать девятым, обслуживающим вокзалы на Каланчёвской площади, и тридцать шестым, охраняющим покой жителей Преображенки и села Черкизово, у тридцатого была своя специфика – на его территории располагался Сокольнический парк с его тропинками, аллеями, дачными домами, местами отдыха, воровскими малинами и бандитскими притонами, переходящий дальше – в Погонный Лосиный остров. Здесь преступный элемент чувствовал себя привольно, милиционеры при всём желании не могли охватить все тропки своим вниманием, сил оставалось только на основные просеки и центральный круг. Зато в остальном район был спокойный – тут хватало и больниц, и заводов, частный сектор был небольшой, не то что в Черкизово, а рабочий люд селился по каменным домам. В жилой застройке громких преступлений было немного, если и проявлял себя криминальный контингент, то скорее по мелочи. Барыги, проститутки, несколько злачных мест с азартными играми и кокаинистами, всех их наперечёт в отделении знали.