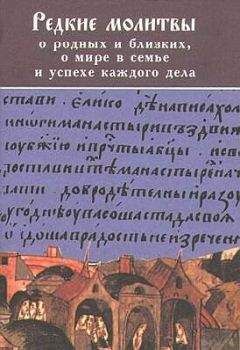В Библии они были названы апостолами.
Роджер Картмилл не крал, не убивал, не прелюбодействовал, никого не обидел, хотя многие обижали его, говорил о лучшей жизни, но не настаивал на своих взглядах, он был человеком мягким и достойным, и многие считали его чокнутым, хотя был он вполне нормален.
Он закончил колледж с посредственными оценками, хотя был тих, усидчив и пунктуален. Он не женился, жил, ничего не боясь, ни перед кем не заискивая, выполняя все предписания католической веры и исправно посещая церковь.
Он жил, и он выжил, и бродил сейчас по улицам Нью-Йорка, звал и не получал ответа, было ему тоскливо и горько, потому что он знал о приходе Мессии и Дне страшного суда, и видел результат – никто (никто!) не выдержал испытания, кроме него, Роджера Картмилла.
Вот здесь он любил сидеть на скамейке и слушать пение птиц перед тем, как отправиться в офис – подсчитывать и подшивать бумаги. Скамейка была пуста, сквер был пуст, только у мусорных баков оживленно суетились жирные крысы – настало их время. Ему и в голову не пришло возмутиться или хотя бы испугаться при виде этих тварей, к концу Дня восьмого ставших хозяевами крупных городов. Он прошел мимо скамейки и мимо крыс к станции подземки, она была освещена, и турникеты работали, и жетонные автоматы тоже; откуда-то изнутри, из-под земли, слышался гул, будто там дышал вулкан. Картмилл стоял и слушал, и знал, что не войдет, потому что было это бессмысленно, а он всегда делал только то, что имело смысл. Тот смысл, который вкладывал в вещи Творец.
Зачем он жил?
Сейчас ему казалось, что он и не жил вовсе. Господи, думал он, весь мой грех перед тобой в этом. Я не стремился жить. За это наказан. Почему – так? Почему я должен быть один в мире, предназначенном для всех? Я не могу прожить миллион жизней, для которых существует этот город, я не могу есть за всех, работать за всех, отдыхать за всех, я не могу обмануть – не только за всех, но и за себя одного, никогда не мог, и я знаю теперь, что это грех, потому что, если бы я был таким, как все, я и ушел бы со всеми, а теперь ты наказал меня, оставив сторожить то, что мне не принадлежит. И еще я грешен в том, что не могу совершить греха – броситься с платформы на рельсы; если нет поезда, то можно хотя бы сломать шею.
Идем, – сказал я ему. Голос прозвучал в мозгу апостола, будто отражение собственной мысли. Картмилл шел, сосредоточенно прислушиваясь, бросил в прорезь турникета жетон, спустился на платформу, где было темно и плохо пахло (несколько мертвецов лежали вповалку, час назад здесь крепко дрались ножами), а из жерла туннеля торчал, будто затычка в горлышке бутылки, последний вагон поезда, столкнувшегося с шедшим впереди составом. Поезд был пуст.
Я подвел апостола к краю платформы и показал ее зовущую высоту. Картмилл отпрянул. Нет, – сказал он, – это грех.
– А такая жизнь? – спросил я. – Ты знаешь, как нужно жить, чтобы быть чистым перед Богом. Но кому ты это расскажешь, кого убедишь? Невозможно быть праведником, если нет грешников.
– А я? – спросил он.
– Ты? Ты серость. Не апостолы создали цивилизацию, а грешники. Те, кто имел смелость выбирать. Именно потому цивилизация существовала и стала такой, какой не должна была стать. Мне не нужны апостолы, потому что они хуже грешников. Они бесплодны. Дерево может приносить красные сладкие яблоки или кислую ядовитую волчью ягоду, но плодоносить оно должно.
Ну, иди.
– Сейчас, – прошептал он. Не потому, что хотел этого, не потому, что согласился. Он впервые задумался о Смысле и понял, что Смысла нет.
Это была первая греховная мысль в его жизни.
И последняя.
Он исчез.
Я оглядел результат дела своего – людей больше не было на этой планете, а на других не было и прежде. Но мог ли я сказать: и вот хорошо весьма?
И было утро, и был вечер – День восьмой.
"И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их".
Бытие, 1; 25
Земля была далеко. Отсюда она выглядела бы зеленоватой искрой для обычного человеческого взгляда. Но я-то видел иначе. Я показывал Лине Солнечную систему: вязкие и смрадные океаны Юпитера, сумрачные раскаленные плоскогорья Венеры, изумительно красивые оазисы в марсианских пустынях – плоды Дня третьего.
И этого тоже не будет? – спрашивала она.
Будет лучше, – отвечал я.
А этот Мир, – спросила она, – наш Мир, он – первый?
Умница, Лина, хороший вопрос, только ответить на него я пока не могу. Не помню! Могло быть так. Но было ли? Я подумал, что вспомню и это, когда наступит День тринадцатый, он же первый, и когда сила моя станет опять такой, какой и должна быть – бесконечной. Сила и память, и способность предвидеть, и я смогу все совершить, и знать буду тоже все, в том числе и о самом себе.
Мы пронеслись мимо рыжего Марса и вернулись к Земле, отдых кончался, начинался День девятый.
Я увидел Лину на фоне звезд – такой, какой она сама видела себя в ту минуту: глаза, только глаза, широко раскрытые, полные слез, глаза скорби, которые невозможно забыть. Я смотрел в эти глаза и знал, что наступает время решения – быть ли нам вместе.
Память. Лина вспомнила (вдруг! ностальгия по ушедшему Миру, как и воспоминание об умершем, подступает неожиданно и без повода) нашу скамейку на бульваре, и мою комнату, когда мы были там вдвоем и когда казалось, что больше ничего нет – только мы, и не нужен мир вокруг, пропади он пропадом с его проблемами и жестокостью... И голубь у скамейки, и небо с белым пуховым следом от пролетевшего самолета... И люди, люди – спешащие, ждущие, кричащие, не пускающие, такие свои, что...
Хватит. Я отогнал эти воспоминания, я погрузил свое сознание в ее память, в которой Лина тонула сейчас, я подхватил ее, сопротивляющуюся, и выволок, и показал ей Мир – не тот, ушедший, а этот, все еще ждущий.
Все, – сказал я. – Родная, любимая – все. Не мешай мне сейчас.
В чем же я ошибся? В генах обезьяны? Или перворыбы? Или порочной была сама идея органической жизни?
А существовала ли альтернатива?
Я создал Мир из противоречий. Свет и тьма. Земля и вода. Пустота и воздух. Это простые альтернативы, без них не было бы того, к чему я стремился, – развития. Жар и холод. Живое и мертвое. В День третий я создал жизнь, отделив ее от смерти, я создал принципиально новую альтернативу, потому что жизнь могла порождать и усложнять альтернативы сама. Сон и явь. Голод и сытость. Самец и самка. Свой и чужой. И дальше – все быстрее и сложнее. Мужчина и женщина. Любовь и ненависть. Добро и зло. Все. Дальше – тупик. Невозможно развитие без борьбы добра со злом. И невозможна победа. Схватка добра и зла – первая и последняя война, в которой не может быть победителя (куда там войне атомной!). Без выбора нет развития, но противоречия не только развивают разум, противоречия сжигают его.
Все правильно. Я хотел, чтобы человек стал совершенным – сам. Мне интересно было наблюдать за этим процессом, а я должен был не наблюдать, а делать. Лепить не способность к развитию, а конечный результат.
Но ведь именно этого я и не желал! Это было бы просто и неинтересно, как вложенные друг в друга матрешки, повторяющие одно и то же – по образу и подобию самой большой из них.
Линочка, ты понимаешь меня? Теперь нас двое. В День первый я был один. Тогда я мог бы создать Мир без альтернатив, а сейчас? Я люблю тебя, и это вечно. Это выше всего, и выше Мира, который я создал или смогу создать.
Меня касались ее горячие ладони, ее мягкие губы, ее тихий голос успокаивал меня, она была – чувство, я – разум, но и чувство тоже, и эта самая властная из альтернатив лишала меня возможности вообразить Мир без выбора. Может ли Бог создать такой камень, который сам не сможет поднять? Я смог – я создал альтернативу разума и чувств. И не осилил ее сложности. Лина, помоги мне. Много работы.
Только День девятый.
С животными было проще – они ничего не понимали. Да и у меня сил прибавилось, я мог выбирать, что сделать сначала, что – потом. Мы с Линой будто вобрали Мир в себя и чувствовали, как он дышит, жует, спит, бегает, хватает, нянчит – почти то же, что и тогда, когда еще жил человек. Почти то же. За одним исключением. В Мире больше не было Разума. И альтернативы стали проще.
Лина притихла, ей было грустно, она прощалась с миром живого, гладила легкими прикосновениями жесткую шерстку оленей, и животные вздрагивали, вытягивали шеи, звучно ревели. Лина играла с ними невидимая, любящая, страдающая. Она не терпела крыс, а их расплодилось после исчезновения людей неимоверное количество. Не нужно, – сказала Лина, – не хочу. И крысы исчезли.
Она сделала это сама, поразилась своей силе, и впервые за этот день я увидел на ее лице улыбку. Я представлял сейчас Лину какой она была во время нашего похода по ярославским лесам – в брючках и свитере, волосы собраны на затылке лентой, высокий лоб открыт, она была Царевной-лебедь.