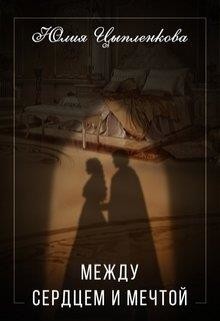– им честь великая, а у меня сердце заходится. Так и стреляю глазами, авось, князюшку моего хоть мельком увижу. Только не вышел он, и в окошко не выглянул. И колдовка его поганая тоже затаилась. Сидят, как два сыча, за дверьми палат спрятавшись. А что творится там, никому не ведомо.
Только как вспомню, как Велеслав меня целовал, да подумаю, что и ее также, так враз разнести тут всё хочется. Но креплюсь. Коль добра хочу, то и злобу затаить надобно. Хватит, допылилась уже, кулаками наразмахивалась. Все дела переделала, теперь разгребать буду. Вот и иду рядом с Доброгой смиренная. И кухню посмотрели, и над котлами огромными головами покачали, и княжьим кухарям поклонились, чтоб, значит, волками не глядели. Те поворчали немного и оттаяли. Стали спрашивать, кто по какой части силен. Ну, так и подружились, и по делам определились.
Помыкалась я немного средь новых товарищей, а там Доброга меня и позвал:
– Иди, – говорит, – Кудря. Ты мне покуда без надобности. Тут своих помощников хватает.
Я и выскользнула с кухни, да в руки Никуши попала. Потянул он меня с чужих глаз подалее, да и припрятал до срока в чулане. Сказал, что никто сюда нос не сунет. А мне много и не надо. Принюхалась – мышами пахнет. Вот и зашептала, мышку призывая. Будет мне свой лазутчик. Всё, как есть покажет, и самой никуда идти не придется.
– А ты ступай, воевода, – говорю, как только мышка на ладонь забралась. – Я покуда одна посижу, а как что сказать будет, так и пришлю к тебе прислужника. Запищит – услышишь.
– Тоже дело, – отвечает Никуша.
Вот и ушел он, а меня одну оставил. А я мышку по спинке поглаживаю, и в ухо ей приговариваю:
– Беги, лазутчик мой, да в княжьи палаты. Сама погляди, и мне покажи, что князь делает. Да слушай прилежно, чтоб и я каждое слово услышала.
Пискнула мышь, с руки на пол сбежал, как только я наклонилась, да в дырку и юркнула. А я на пол села, глаза закрыла, а всё одно вижу. Только вижу так, будто совсем маленькая стала. И свет белый таким большим вдруг сделался, что аж дух захватило. Бежит мой посланник то во тьме меж стен, то по свету мимо ног людских, да никто его не видит. Вот и прибежала мышка к дверям княжеским, да под них и шмыгнула.
Бежит дальше лазутчик, Велеслава, стало быть, ищет. А как нашла, так и затихла – подглядывает, и я с ней смотрю, да от того, что вижу, снова выть хочется. Нет в глазах пустых лукавинки. Будто и вправду мертвые. Были синие да ясные, а будто мутью их затянуло. И на устах нет улыбки веселой, даже уголки вниз опустились, будто горько соколику. Сидит на стуле резном, перед собой смотрит, а словно ничего и не видит. Только брови иногда хмурит, да кулак сожмет, и вновь рука плетью виснет. Борется князюшка! Борется любый мой, да никак побороть чары черные не может.
И лиходейка тут, как тут. Подошла к нему сзади, да руки свои корявые на плечи широкие уложила. И волосы у нее не черные – зверя не обманешь мороком, даже если то мышь малая. Как солома спелая волосы у колдовки. И глаза не разные, а темные оба. Ничем на меня не похожая, верно думал Никуша – морок всё это проклятый. Хотела к князю подобраться, вот и подобралась, злыдня.
– Что ж ты, князюшка, всё противишься? – спрашивает колдовка. – Ладно жить с тобой станем, в согласии. Я скажу, а ты и дальше кивать станешь. Что ответишь, Велеслав?
– Да, Лесенька, – говорит князь мой. А голос-то будто эхо далекое. Нет жизни в голосе. Душа его противиться, вот и неживой с виду.
– А я тебе сыночка рожу, – говорит дальше проклятая, – он потом князем станет. Самым сильным будет, весь свет к ногам его ляжет. Тебе никто такого дитяти не родит.
Сидит Велеслав, не отвечает, только опять кулак сжал. А меня и злость берет, и худо делается. Уж не погубит ли сокола моего, как свое получит? Ведь не с добром пришла. Разве ж так хорошая баба сделала б? Коль любила б, то не заморочила. И со своего языка ему в рот слова не переложила. А она ж за него жить хочет, коль указкой стать вознамерилась. А как сына родит, ей и князь не нужен будет послушный. Да и не прожить ему долго, колдовство все соки выпьет.
Тут и я кулак сжала, да опять сдержалась. Рано тебе, Лесовика Берендеевна, войной-то идти. Вон, молчал вроде князь, а потом и кивнул, соглашаясь:
– Права ты, Лесенька. Быть нашему сыну славным князем.
– Мила ль я тебе, Велеслав? – Обошла его и спереди встала. – Хороша ли я, князюшка?
– Без тебя жить не стану, – сокол мой отвечает, а я зубами скрежещу.
– Знаю, что не станешь, – говорит злодейка. – Сердце твое теперь мне отдано, сам так захотел. Верно ль говорю?
– Верно.
– Хотел, чтоб любовь забрала? Как уговорено было, так и сделала – забрала боль твою.
«А себе оставила, – это я в голове своей отвечаю. – Не от любви ты князя избавила, а в слабости его к себе привязала… гадина».
Это ж как умирающего насильно дышать заставить, а рану не исцелить. Вот и помирает он, а помереть не может, а чтоб легче было, тебя, как настой целебный пьет. Ох и злыдня ж мерзкая! Исчезнет она, Велеслав и вправду помрет – крепкой ниткой они связаны. Только вот и я не девка простая. Тоже кой-чего умею. Только сила наша разная. Я же лешиха, мне земля силу дает, чтоб ей назад в служении возвращала, а у этой сила черная, недобрая. Вот бы книжечки умные почитать, что батька, уходя, оставил. Только где ж я на это время найду? Покуда все перечитаю, уж и понесет от князя душегубица. Видать, придется, как умею.
– Что в голове твоей, Велеслав, делается? – колдовка тут спрашивает.
А князь и ответил, на нее не глядючи:
– Лесенька.
– Ну и прикипел ты к той лешихе, – качает головой гадюка. – Ничего, после свадьбы только обо мне думать будешь. Обряд-то нас крепче крепкого свяжет, уже ни о ком не вспомнишь. Коли знала бы, что так обернется, то по зиме б тебя в гибельный сон не отправила б.
Ах ты ж змея подколодная! Так вот ты какая, колдовка черная! Оборотница, значится. Выходит, тогда погубить за так хотела, а сейчас за князев счет