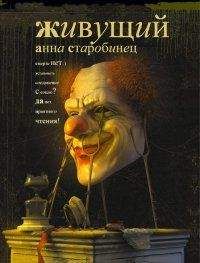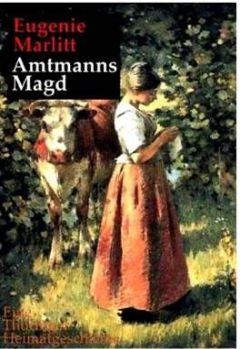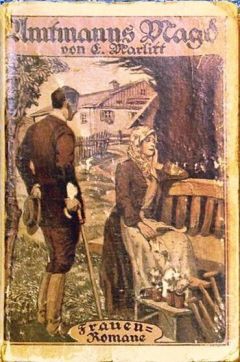Ознакомительная версия.
Она снова хихикнула, и я заметил, что с ее глазами что-то не так. Ее зрачки сужались и расширялись — не синхронно, по очереди.
— …А насекомые? — она повысила голос. — Пчелы, осы, муравьи и термиты — почему они нас не боятся?
— Потому что доисторический человек не истреблял насекомых…
— Нет, не поэтому!.. — Ее зрачки вдруг застыли, один большой, другой маленький, и она заговорила спокойно и кротко: — Вероятно, вы пытаетесь сделать что-то не совсем верное. Вы хотите перейти в спящий режим? Да. Нет… Выполняется автоматический переход в спящий режим…
Я смотрел, как она мирно спит, свесив голову набок. Потом пришла Ханна, и увела меня, и сказала, что «тетя просто устала».
Я хорошо запомнил этот урок. Животные боятся Живущего.
Там, на Ферме, собака лизнула мне руку, но я не обрадовался. Я подошел так близко к вольеру, потому что хотел, чтобы она меня испугалась. Чтобы они все испугались. Потому что животные боятся Живущего.
(стенограмма беседы исправляемого Лисенок с сотрудником ПСП от 17.07.471 г. от р. ж.; фрагмент)
Сотрудник ПСП: Ты — свидетель очень серьезного происшествия. Ты должен рассказать все, что видел и слышал в тот день на Зеленой Террасе. Максимально подробно.
Лисенок: Я не виноват. Квин, это не я! Я тут ни при чем.
Сотрудник ПСП: Тебя никто и не обвиняет в соучастии. Ты просто свидетель. Пока что. Но от твоих ответов зависит гармония и стабильность Живущего. Ты хочешь помочь Живущему?
Лисенок: Да. Я очень люблю Живущего и все для него сделаю. Квин.
Сотрудник ПСП: Я рад, что ты так говоришь. Это правильно. Ты хороший исправляемый, и я уверен, что очень скоро ты совсем исправишься. К тому же ты ведь у нас знаменитость! Я видел твое выступление на фрик-тьюбе.
Лисенок: Правда?
Сотрудник ПСП: Конечно. И другие планетарники видели. Ты отлично спел… Ну, рассказывай!
Лисенок: Я услышал крики с Доступной Террасы. И… я немного испугался, но мне было интересно, и я спросил друзей, что там творится…
Сотрудник ПСП: Тут поподробнее. Каких друзей ты спросил? Как ты их спросил?
Лисенок: Я спросил в социо, ну, во втором слое, общей рассылкой всю нашу группу.
Сотрудник ПСП: Тебе ответили?
Лисенок: Да, Тритон и Герда ответили.
Сотрудник ПСП: Текст ответов?
Лисенок: Посмотреть в памяти?
Сотрудник ПСП: Да.
Лисенок: Тритон: «этот псих 0 собирается себя уничтожить и кажется он еще собирается сжечь наш термитник урод». А Герда… Герда написала… Извините, я стер ее ответ.
Сотрудник ПСП: Почему?
Лисенок: Мы с ней поссорились вчера. Потому что она сказала, что Планетарник из «Вечного убийцы» ведет себя как идиот и не может поймать преступника, который у него прямо под носом, а мне очень нравится Планетарник, и я думаю, он хороший… Так что мы с Гердой поспорили, и я разозлился и удалил навсегда всю нашу историю чата. Это очень плохо?
Сотрудник ПСП: Ничего страшного, это же твоя личная соцш-ячей— ка, ты имеешь право удалять из нее все что хочешь. Просто скажи, что тебе ответила Герда.
Лисенок: Я не помню.
Сотрудник ПСП: Своими словами.
Лисенок: Я правда не помню… Яппп! Я не знаю, как пересказывать своими словами. Я никогда не запоминаю сообщения, они ведь все в памяти… Я ведь не виноват, правда? Другие тоже ничего не запоминают.
Сотрудник ПСП: Не волнуйся, ты не виноват. Теперь расскажи, что было дальше.
— …Потому что в мире Живущего нет преступников!
— …Потому что нас содержат в исправительном Доме!
— …Потому что каждый из нас может исправиться!
Три «потому что». Каждый день, утром и вечером, хором. Я засыпал и просыпался под этот хор. Я и сам был частью этого хора — выкрикивал ответы на вопросы, раздававшиеся в их головах. Крэкер озвучивал для меня вопросы. Я никогда его не просил, ему просто нравилось это делать.
— Почему в мире Живущего нет преступлений? — воодушевленно шептал он.
…Потому что в мире Живущего нет преступников…
— Почему в мире Живущего нет преступников? — изумленно таращил глаза.
…Потому что нас содержат в исправительном Доме…
— Почему деструктивно-криминальный вектор в инкоде — не приговор? — щекотно хихикал мне в ухо.
…Потому что каждый из нас может исправиться…
Ему нравилось. Нравились сами вопросы. Но ответы у него были другие. Как и другим исправляемым, ему не инсталлировали обучающую программу «Живые пальчики». Но он сам научился писать в первом слое при помощи рук и корявым почерком выводил свои ответы на обрывках бумаги:
«Потому что в мире Живущего преступления называются поддержанием гармонии».
«Потому что в мире Живущего преступники пришли к власти».
«Потому что настанет день, когда мы вырвемся на свободу».
Крэкер был старше меня на два года. Большой лоб и маленькие тусклые глазки. Тонкие и острые на сгибах, как у паучка, конечности. У него дергалось правое веко, как будто он все время подмигивал. К нему близко никто не подходил. Все знали, что он не в себе. Я тоже знал, но это меня не смущало.
На самом деле они шарахались от него по другой причине. Они боялись. Боялись его почти так же сильно, как меня. Все знали, за что Крэкер был здесь, в исправительном. Все знали, что именно он совершил давно, множество пауз назад. Я тоже знал, но и это меня не смущало. Я был единственным, кто с ним говорил и кто его слушал. Для меня он не представлял ни малейшей угрозы. А я — для него.
Чувство взаимной безопасности — вот что нас связывало. Днем мы обычно держались вместе. Ночью мы спали на соседних кроватях, а две другие кровати — по обе стороны от нас — пустовали. Мы подружились не потому, что оба были изгоями. Мы подружились потому, что не боялись друг друга.
Поначалу мне было сложно спать рядом с Крэкером. Он ложился на спину, вырубался почти мгновенно и сразу же начинал громко храпеть. Мне требовалось куда больше времени, чтобы заснуть, и я никогда не успевал отключиться прежде, чем начнется шум. Иногда я часами лежал без сна, а утром вставал измученный и несвежий. Позднее я научился подстраиваться к ритму его дыхания. Грохот сменялся тишиной с равными интервалами. Я представлял себе, что его храп — это поршень, передвигавшийся вверх и вниз, заслонявший и снова освобождавший мне проход в сон. Я научился проскакивать до того, как поршень в очередной раз опустится. Я полюбил эту ночную игру и привык к ней, как к колыбельной.
Однажды я заговорил с ним о Ханне. О том, как мы жили, и как она пела, и как ушла. Он не просил ничего рассказать — мне самому захотелось выговориться, а другого слушателя я бы все равно не нашел. Скорее всего, моя мать была ему безразлична, но Крэкер слушал очень внимательно и ни разу не перебил. Он тихо скреб своими тонкими пальцами красные пятна на шее и иногда едва заметно кивал. Когда я закончил, он не сказал мне — единственный из всех, кто узнал историю Ханны, — что нет повода огорчаться, что она жива и здорова, что смерти нет… Он вообще ничего не сказал. Но с тех пор стал показывать свои запретные записки с ответами.
Он показывал их только мне. Потом прятал. Скручивал в тончайшие трубочки своими паучьими пальцами и запихивал в разные щели. Он повсюду устраивал тайники — прятал даже в террариумах с питомцами: совал трубочки в рассохшуюся древесину, закапывал во влажный песок…
Иногда — редко — Крэкер обнаруживал «чужие» тайники: с тусклой улыбкой извлекал из какой-нибудь пыльной дыры заскорузлую бумажную трубочку, торопливо разворачивал и демонстрировал мне: «Потому что в мире Живущего преступления называются поддержанием гармонии… Потому что в мире Живущего преступники пришли к власти… Потому что настанет день, когда мы вырвемся на свободу…»
Я спрашивал:
— Ну и что? Разве это не ты написал?
Крэкер кивал большой головой и загадочно улыбался:
— Пойдем к Сыну Мясника!
Сын Мясника был из Черного списка. Он содержался в Спецкорпусе строгого режима, на минус втором этаже, в прозрачной конусообразной исправительной камере. Камера была выставлена на всеобщее обозрение в центре ярко освещенного овального холла. Мы с Крэкером садились прямо на пол, лицом к Сыну. Пол был чистый и белый. И такие же белые, слюдянисто-блестящие скругленные стены. Овал потолка — одна огромная плоская лампа. Ни окон, ни углов, ни теней — ничего не скрыть, никуда не скрыться. Искусственный полдень. Прямой и честный исправляющий свет.
Ознакомительная версия.