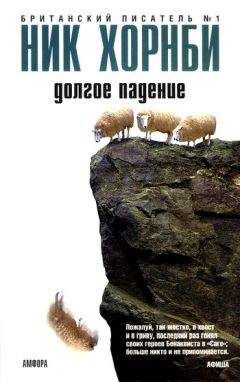отвела глаза.
Насти с Петром не было дома. Я набросал от руки коротенькую записку и засунул под соседский звонок. "Ладно, потерпит Нюрка",-- подумал я по дороге на станцию,-- "Что уже теперь может случиться?"
И окунулся в давно ставший привычным мирок.
Весь день мне однозначно не везло: я напоролся на целую кучу битой оптроники. И бросать жалко, и надежды на то, что среди этого лома найдётся хоть один рабочий процессор, было не так уж и много. А потом я выкопал один из этих странных приборов, которые, по слухам, стояли не то в военных альтерах, не то в контроллерах искусственного интеллекта. Маленькая коробочка, витой иероглиф на крышке - символ давно исчезнувшей корпорации - мембраны прикрывают оптические порты. Тестер пискнул и выдал сообщение о полной работоспособности моей находки.
Я усмехнулся и побрёл на точку.
"Роза перемен". Говорят, раньше были такие сектанты, которые верили, что бог живёт на индустриальных помойках. Не знаю, нашли они его там или нет, а за себя скажу, что много всякого дерьма встречал на Клондайке, но бога - ни разу.
А вот Бедламыч, похоже, из этих самых придурков - последний из Могикан. Раз в месяц он берёт с собой охрану из бойцов Азохунвейбина и отправляется вглубь Клондайка. Среди завсегдатаев его питейного заведения ходят слухи о том, что Бедламыч ищет Хозяина Зоны. А кто такой этот Хозяин никто и знать не знает, да и сам Бедламыч, пожалуй, не догадывается.
В любом случае, "Роза перемен" - это то место, где хорошие люди могут купить хорошей выпивки, а плохие получить в рыло. Я, похоже, был хорошим человеком, потому и сидел за самым крайним столиком, обитым серебристой обшивкой древнего истребителя и пил какой-то шибко непонятный коктейль из десятка компонент. Бедламыч протирал стаканы за стойкой бара, в воздухе стоял негромкий гомон, а сигаретный дым постепенно приобретал плотность густого тумана.
В самый раз было пожаловать плохим ребятам и обломить вечеринку. Ребят долго ждать не пришлось: ближе к вечеру в бар ввалилась бригада вооружённых чурок. Шесть голов, в общей сложности, если конечности, в которые они едят вообще можно назвать головами. Морды наглые, с такими только собственный сортир заходят. Судя по тому, что никто не мешал гостям в их начинаниях, охрану у входа они уже привели в негодность.
Я потянулся за станнером. В подобных переделках важно продержаться до того, как Азохунвейбин просечёт ситуацию и пришлёт подмогу.
А потом чурки посмотрели на меня, и мне вдруг стало очень нехорошо. Потому что ребята, как пить дать, явились по мою душу.
Пинком переворачиваю стол и прячусь за этим импровизированным укрытием. Как раз вовремя - угол стола разлетается в щепки, ещё несколько выстрелов крошат висящие на стене пенопластовые безделушки.
Высовываю руку со станнером, наугад делаю несколько выстрелов. Кто-то из чурок орёт, словно резаный, перемежая русский мат с выражениями на непонятном мне языке. С трудом подавляю в себе желание высунуться, и, как оказывается, совершенно правильно делаю. Потому что стол принимает на себя несколько ударов, от которых меня просто прижимает к стенке. Ножки стола упираются в стену, и я оказываюсь в импровизированной клетке. Бери - не хочу. Чуть высовываюсь вместе со своим пистолетом и отстреливаю чурку, решившего подойти поближе. Остальные отпрыгивают за широкие колонны в другом конце помещения и начинают тщательно расстреливать моё убежище.
Слева от меня рявкает дробовик Бедламыча - наконец хоть кто-то ещё решил вмешаться в происходящее. Я снова высовываюсь и отмечаю совершенно нелицеприятную картину: в бар прибыло подкрепление, которое притащило с собой самопальное подобие гранатомёта. Будто и без тяжёлой артиллерии они бы меня не прикончили.
Я мысленно попрощался с жизнью, и в этот же момент ближайшая к входу пара чурок изошлась кровавыми брызгами и натурально сложилась пополам. На пороге возник Жора Капут со здоровенным гаусом в руках. Чурки восприняли появление Жоры без энтузиазма, однако же сообразили, что гаус такого калибра второй выстрел сделает не раньше завтрашнего утра и буквально изрешетили то место, где только Жора что стоял. Я успел выстрелить ещё два раза, вроде бы даже кого-то задел, а потом что-то очень похожее на человека разбило стекло и упало на пол.
Чурки тщательно расстреляли неопознанный объект, так что опознать его после этого стало ещё сложнее. Объект, тем временем, вёл себя, как и полагается трупу, более чем спокойно. Чурки попрятались чтобы перезарядить свои стволы. Жора подбросил им гранату. Те, в свою очередь, не долго думая отфутболили её в мою сторону, а я до конца осознал происходящее уже перепрыгивая стойку бара.
Вот ведь как случается: как летел через стойку помню, как меня чуть Бедламыч не пристрелил, помню, а как я из-за стола от гранаты драпал - не помню, хоть стреляйте.
Громыхнуло на славу. Только стёкла полетели. Ближайшие к эпицентру взрыва бутылки брызнули стеклом и пойлом.
--Это сучьё мне ответит,-- прорычал Бедламыч, и, в подтверждение своих слов, угостил визитёров картечью.
Команда гостей, отреагировала сразу, принявшись расстреливать уцелевшие бутылки. В другой ситуации я бы, пожалуй, обрадовался дождю из спиртного, но тут критическим был факт огнеопасности этого самого дождя.
--Бедламыч, валим отсюда! Они нас спалить решили.
В этот момент, судя по звуку, что-то опять влетело в окно. Я высунулся посмотреть, и, попутно, подбить кого-нибудь из чурок.
А оказалось, что в окно влетела Полина. Живая. С двумя станнерами. И очень злая. Даже слишком. В дверях снова появился Жора, и в ствол его гауса вполне можно было просунуть мой кулак - может такой калибр и требует перезарядки конденсаторов, но никто не мешает прихватить с собой запасной ствол. И Бедламыч выкатился из-за стойки с двустволкой, заряженной, судя по результату, отнюдь не солью. А чурки никак не могли справиться с заклинившим гранатомётом.
Картина "Избиение младенцев". Короткая и мясная.
Что до парней Азохунвейбина, то они подоспели только через полчаса.
22.
Два метра по осеннему времени.
Не страшно, не смешно - просто холодно.
Без рода и, похоже, без племени
По переулкам Старого Города
Два метра моего одиночества
Замкнули сердце рваными строками,
Строфою, на себя закороченной,
Зимой, недоступно далёкою.
И город, захлебнувшийся инеем,
Свидетель моего отчуждения,
Отмерит глубину моей гибели:
Два