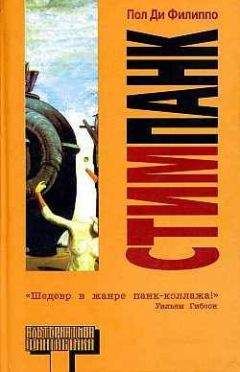Плавание было нескорым и заняло семь недель. К тому времени, когда корабль вошел в канадские воды, половина пассажиров были при смерти или уже мертвы. Мне никогда не забыть того, что я видел и слышал там. Хрипы отчаявшихся, стенания детей, бред горячечных, крики и стоны бьющихся в смертных муках!
Нас послали в карантин на Гроссе-Айленд. Бессердечный экипаж не мог дождаться, когда избавится от нас. Они выбросили нас на песчаный берег, и у многих не было сил выползти из ила, в котором они лежали и в котором в конце концов – помилуй Господи их души! – испустили дух.
Нас ждали только хижины, которые нельзя было обогреть, и еды не хватало. Разумеется, ни один врач к нам не приехал. Каждый день нам говорили, что карантин вот-вот снимут. Каждый день мы сбрасывали все новые тела в общие могилы! Каждый день все новые корабли приходили из Европы и привозили исполненных надежд беженцев в Страну Возможностей!
Когда наконец я бежал, пятьсот наших уже погибли.
Вот каково было мое первое знакомство с бравым Новым Светом! Я прибыл в трюме как черный раб, ошметки невинности сгорели в горниле страданий, но моя вера в вооруженное сопротивление возросла тысячекратно!
Однако мне не следовало тешить себя надеждами. Повсюду в моих странствиях я видел, как мучают простого человека, давят точно муравья под своей пятой правители! Возьмите родину моего отца, Польшу. Она поделена между пруссаками, Иванами и австрияками; ее талантливейшие сыны и дочери рассеяны по всему свету, ее вольные землепашцы превращены в крепостных! О, как она страдает, моя отчизна! Но ее страдания искупят весь мир!
Только не подумайте, будто мое сердце болит лишь за страны моих отца и матери. Отнюдь нет! Я един с борцами за справедливость повсюду.
Я душой был в Париже, когда отправили на гильотину Людовика, – тогда я стоял рядом с Маратом и Робеспьером! Я сражался бок о бок с Туссеном-Лувертюром, когда он освобождал Гаити! Я был с заговорщиками Като-стрит, когда лондонская полиция вломилась и перебила всех [71]! Я воюю бок о бок с Симоном Боливаром и Бернардо О'Хиггинсом [72] в Южной Америке!
И хотя телом я никогда прежде не стоял на земле Америки, моя пылкая душа была здесь!
Я подбил на бунт рабов Денмарка Виси и Нэта Тернера! Я умирал с индейцами у Подковного поворота! С антирентнерами я въехал в Гудзонскую долину и вешал землевладельцев! Вместе с Томасом Дорром я взялся за оружие на Род-Айленде против армии штата, пришедшей лишить нас права голосовать! Я стоял на баррикадах во время всеобщей забастовки в Филадельфии и банковских беспорядков в Балтиморе! Своими листовками я поднял «Портных-подмастерьев» в Нью-Йорке [73]. Слушайте, что я написал:
«Богатые против бедных! Механики и рабочие! Почему вы отдали богачам свое право решать, чего вы хотите?» И я поддерживаю не только политические восстания, но и отдельные акты насилия, ибо там, где закон на стороне богатых, преступление – единственное прибежище бедных. Разбойники с большой дороги и душегубы – мне братья; шлюхи и карманники – мне родня. Я подпевал десперадо [74] в Калифорнии:
Как тебя звали дома? Тейлор, ты был в Оклахоме? Ты убил жену и бежал из дома? О, как же звали тебя в Оклахоме?
Свою песню Костюшко сопроводил несколькими па польки-джиги.
– Этому и еще многому я рукоплескал. А теперь, когда я здесь во плоти, то сделаю еще больше! У человека по имени Джон Браун [75] уже созрел план… Но не стану портить поджидающий вас сюрприз. Вскоре весь мир увидит плоды мох трудов. Как только фетиш будет у меня, тираны повалятся сотнями! Но пока мне приходится довольствоваться мелкими подрывными акциями.
Достав из-под плаща кусок веревки, Костюшко подошел к Агассису и умело связал ему запястья и лодыжки, а затем усадил на голый пол. Безумный подстрекатель убрал пистолет в карман и направился к помосту с чанами. Там он взял топор на длинной рукояти.
Агассис уставился на него с изумлением и ужасом.
– Неужели вы намерева…
– Да нет, что вы. Давайте считать это иллюстрацией того, как всю систему вскоре закупорят сгустки крови диктаторов…
Костюшко забрался на леса и начал рубить металлические обручи, скрепляющие доски чана. Трудился он как одержимый. На глазах у скованного ужасом Агассиса обруч разошелся, и доски начали выгибаться наружу, а между ними стала медленно просачиваться бурая жидкость. Костюшко же быстро перешел к следующему чану.
Вскоре распирало уже все чаны.
Костюшко остановился, чтобы обозреть дело своих рук, потом обратился к Агассису:
– Миллион галлонов патоки, сэр. Ну, раскаиваетесь вы теперь в «торговом треугольнике» [76]?
– Я не имел к этому никакого отношения! – возопил Агассис. Но было уже слишком поздно, так как, взмахнув плащом, Костюшко исчез за дверью на галерее верхнего этажа.
Под неумолимым давлением бурой жижи доски гнулись, гнулись, гнулись… И поддались!
Поток патоки захлестнул Агассиса. Он почувствовал, как его подхватывает и уносит. Несмотря на путы, он старался удержаться на плаву, а поток крутил и вертел его. Патока заползала ему в глаза и в ноздри, в уши и в рот.
На краткий миг он всплыл на поверхность. Он и не подозревал, что его вынесло за стены. Патока пронеслась через ворота, словно тяжелых створок там не было и в помине, и теперь залила превратившуюся в узкий канал Хулл-стрит. Блестящий бурый поток, достававший до окон второго этажа, несся с холма со скоростью… ну, патоки.
Крутясь и переворачиваясь, Агассис тщетно силился высвободить руки. Его липкая голова вынырнула на поверхность раз, другой… Он хватал ртом воздух, пытался оттолкнуться от чего-нибудь ногами…
И вдруг, погружаясь в третий раз, он почувствовал, как сильные руки схватили его за ворот. Руки приподняли его из вязкой массы, которая липкими жадными щупальцами цеплялась за его нижние конечности.
Он понятия не имел, кто или что схватило его. Веки у него склеились. Он попытался поблагодарить неведомого спасителя, но не смог.
Агассис не знал, как долго он висел в воздухе. Он чувствовал, что паточный поток понемногу спадает. Наконец его отпустили, и с высоты нескольких футов он упал на землю.
Кто-то шел к нему – об этом возвещало чавканье шагов. Вскоре Агассис почувствовал, что его путы разрезают.
Освободив ему руки, спаситель начал протирать ему глаза тряпицей. Агассис обнаружил, что снова может их открыть.
Подобных разрушений он даже вообразить себе прежде не смог бы.
Кругом лежат обломки повозок и тележек, разбитых о стены заляпанных патокой домов, мертвые лошади, а также немалое число трупов, одним из которых по праву должен был быть он сам. Жильцы второго этажа, не веря своим глазам, глядели на лежащие в бурых лужах обломки.
Рядом стоял Цезарь с липким носовым платком в руке. Агассис рассыпался в пылких благодарностях.
– Я обязан вам моей жизнью, Якоб…
– Нихт мне. Майне Дотти фас спасла. Поглядите!
Зацепившись коленями за бельевую веревку, бесстыдно показывая нижние юбки – ведь верхняя свесилась ей на лицо, – раскачивалась вниз головой готтентотка. Это ее сильные руки выловили его из паточной реки, о чем свидетельствовали ее собственные мокрые по локоть рукава.
Агассис открыл было рот, но не смог повторить слов, которыми так щедро осыпал Цезаря.
Цезарь же как будто не собирался упрекать его после всего, что он только что перенес. Могучий бур сказал только:
– Ах, имей мы оладьи, мы бы, ей-ей, на славу устроились!
Сколько бы Агассис ни скреб себя, понадобилось три дня, чтобы запах патоки, исходивший от его персоны, частично ослаб. Вездесущая приторная вонь отбила у него все аппетиты, как гастрономические, так и сексуальные, и большую часть этого времени он провел, запершись у себя в кабинете, где, дабы отвлечься от невзгод, лениво набрасывал приходившие ему в голову зачаточные идеи. Наиболее многообещающей показалась ему мысль создать организацию под названием «Американская Ассоциация Развития Науки» [77]. Давно пора создать гильдию ученых. Объединенные усилия многих просвещенных людей не только позволят науке прочнее окопаться у кормушки общественных и частных пожертвований, оттеснив от нее таких никчемных едоков, как художники и поэты, такая организация станет источником множества ценных знакомств, что будет способствовать карьере самого Агассиса…
На время своего затворничества Агассис оставил жизнь в доме идти своим чередом. Он подозревал, что в конечном итоге еще пожалеет, что потакал присущей Дезору склонности брать все в свои руки, но поступить иначе ему не хватало ни сил, ни желания.
Не занимали его в этот период ни бур, ни его готтентотка, ни их добыча. Всей историей он был сыт по горло, а с ней и тяготами, которые она на него взвалила. Да в этих безумных поисках он едва не лишился жизни! И как горько было думать, что своим существованием на этом свете он обязан обезьяньей ловкости аборигенки… Какая язвительная ирония! Он все еще содрогался при воспоминании о том, как ее нечистые руки касались его одежды.