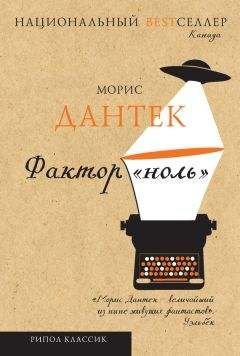Коридор, выложенный темно-красным терракотовым кафелем, ведет к входной двери. Она представляет собой широкий прямоугольник неполированного стекла, пропускающего дневной свет, который дрожит на белых стенах с изразцами желто-бронзового цвета и на полу, покрытом кирпичной восьмиугольной плиткой.
Внешний мир.
Мир.
Я понимаю, что в моем распоряжении находится весь дом целиком. Дом на опушке соснового леса – это мой гостиничный номер. Точнее, моя гостиница, мой частный дом.
Я проснулся не в больничной палате, не в гостиничном номере. А в доме.
В совершенно определенном доме, находящемся в определенном месте, в определенном городе.
Следовательно, по определенной причине. Смысл происходящего пока мне недоступен, но он обнаруживает свое наличие самой своей закрытостью, моей необъяснимой амнезией.
Если я, лишенный памяти, нахожусь здесь, в доме, которого я не знаю, это не случайно.
А если это не случайно, значит, это устроено сознательно.
Кто-то хочет, чтобы я пережил этот опыт.
Что-то или кто-то манипулирует мной, и я не знаю, о чем или о ком идет речь, поскольку по-прежнему не подозреваю, кто я, где я и в какое время попал.
Я – просто нить, извивающаяся над пропастью, и даже то, к чему она привязана, подвешено над пучиной без дна: я, словно в невесомости, парю в пустоте, колеблюсь между двумя мирами, – и если бы зеркала не лгали, то в ванной комнате я увидел бы отражение привидения, призрака, голограммы.
Именно по этой причине, без сомнения, в первый день моего пробуждения я не вышел из дома. Я посмотрел из окон наружу, на город, на сосны, на обширное пространство частных пляжей, лежавших вдоль залитого солнцем проспекта по берегу моря, на синеву воды, чуть более зеленую, чем синева неба, на корабли, которые я заметил у мола. Но носа на улицу я не высунул. Я привык к своему облику, снова и снова заходя в довольно роскошную ванную комнату на втором этаже. Остальное время я рылся, искал, исследовал каждый уголок дома, в котором только что родился.
Я ничего не помнил, поэтому стремился к будущему с удесятеренной силой. Я мог часами сидеть в комнате, вертя в руках какой-нибудь предмет или разглядывая расположение, цвет, форму, структуру стен или мебели.
Поэтому не найти его я не мог.
Я нашел его в кладовке на первом этаже, среди старой домашней утвари, газет, журналов, потрепанных книг, ящиков с инструментами для поделок, запасов электрических лампочек, шнуров и двадцатикилограммовых мешков с собачьим кормом.
Чемодан. Несколько старомодный по стилю, но прекрасно сохранившийся, он сразу выделялся среди кучи разнообразных вещей, под которой я его обнаружил. Дорожный чемодан, с колесиками и выдвижной ручкой, с застежками «молния», с шотландским узором – фиолетовый, пурпурный и серый тартан.
Когда я нашел чемодан, было уже довольно поздно. Солнце касалось горизонта, приближалась ночь.
И при этом красном густом освещении, падавшем из окна кладовки, я открыл его.
Свет инфракрасного излучения озарил два находившихся в нем предмета. Оранжевый огонь упал золотой гравюрой на первый белый лист стопки бумаги. Этот же огонь загорелся на латунных украшениях старинной пишущей машинки «ремингтон», старинной, но находящейся в рабочем состоянии и готовой к службе. Этот оранжевый огонь зарябил в моих глазах, когда я понял, что первый лист не совсем чист. На самом верху страницы, в середине ее, виднелось слово, в оранжевом свете я смог узнать характерную манеру печати пишущей машинки.
АРТЕФАКТ – значилось там заглавными буквами синего цвета.
Название.
Листки бумаги.
Почтенная пишущая машинка.
И в падающем с неба красно-золотом освещении я осознал происходящее.
Это действительно эксперимент. Или нечто, ему подобное. Какая-то форма психологического манипулирования.
Кто-то хочет, чтобы я сделал в этом доме нечто совершенно определенное.
Мне дали возможность сделать это.
Кто-то хочет, чтобы я писал.
Не знаю почему, но кто-то хочет, чтобы я писал. Но что? И почему?
Кто-то хочет, чтобы я писал.
И по этой причине мне начисто стерли память.
Кто-то хочет, чтобы я писал.
Кто-то, кажется, убежден в том, что для этого мне для начала нужно потерять свою личность.
Второй день: машинка и ее двойник
Я проснулся, комната оставалась все такой же белой. Солнце уже атаковало сетчатку глаз своим рассеянным золотом, небо снова сияло электрической лазурной мономанией. Вдали изумрудная зелень моря играла с линией горизонта, на котором флотилия туч плыла на юг.
Я проснулся, широко открытый чемодан лежал на полу, в ногах кровати. Я лишь слегка приподнялся на подушке и увидел его за простынями, белыми, как стены комнаты.
Он возвышался над паркетом из золотистого дуба, его бока обтягивал шотландский тартан. Толстой стопкой лежали белые листы, такие же белые, как стены, как простыни, как мое сознание. А пишущая машинка «ремингтон», словно некий механический Грааль, словно священная реликвия, быть может чудотворная, всем своим металлом и бакелитом ждала Святого Елея.
Я проснулся в том же месте, что и вчера, примерно в то же время дня, практически в тех же условиях, что и накануне. Все сияло белым, золотым, голубым. Я по-прежнему находился здесь, не зная, на что это «здесь» похоже. Что это за местность? Что за значок на карте?
Но кое-что значительно изменилось со вчерашнего дня. Помимо моей тосканской интуиции, этого первого выбора параметров, этой первой идентификации местности (Италия), помимо элементарного топографического определения моего местонахождения, из мира явилось нечто, прямо проникающее в мой мозг, туда, где как раз уже ничего нет.
Нечто посылало мне знаки, которые привлекали мое внимание своим присутствием, своим внешним видом.
Эти знаки – пишущая машинка и стопка листков – не столько являлись орудиями для письма и записывания, сколько взывали к тому, чтобы я писал и записывал.
Произошло очень странное событие, видимо, ночью.
Первые страницы из стопки листков покрылись печатными буквами синего цвета, характерными для «ремингтонов» этой старинной и знаменитой модели.
В самой машинке листа уже не было. «Ремингтон» и листы бумаги казались соединенными невидимой связью. Пишущая машинка и напечатанное ею словно не нуждались в человеческом посреднике, им как будто не нужен был активный физический контакт для того, чтобы слова, созданные одной, оказались на поверхности других.
Они представляли собой сеть прерываний. Они нуждались лишь в перевернутой личине.
Меня охватило, даже потрясло неожиданное и волнующее понимание, такое же светлое, как какое-нибудь мистическое открытие: ни листы бумаги, ни машинка, ни ее клавиши, ни ее пропитанная синими чернилами лента, ни то, ни другое, ни третье не являлись инструментами в прямом смысле этого слова.
Вывод казался очевидным: если инструментами для письма не являются ни пишущая машинка, ни бумага формата «А4», то, следовательно, эту роль должен исполнять кто-то другой.
Одна очевидность тут же повлекла за собой другую: конечно, никто в мире, кроме меня, исполнить эту роль не может.
Перевернутая личина – это я.
Теперь я обладал ответом на один из вопросов, возникших накануне. Что? Они хотят, чтобы я сделал что?
Видимо, они хотят, чтобы я как раз и рассказал о чувствах человека, запущенного, словно метеор, в туннель, ведущий к его собственному будущему.
Неужели именно я написал эти несколько страниц ночью?
Только такое объяснение выглядело логичным. У меня амнезия. Она, видимо, сопровождается рядом побочных эффектов.
Эти побочные эффекты, несомненно, и являются главной целью эксперимента. Сама амнезия – всего лишь подготовка предварительных условий, она не имеет практически никакого значения. Это просто техническая процедура.
Истинная тайна, секрет заключаются в стопке бумаги и в пишущей машинке, аккуратно убранных в чемодан. В этой машинке, которая, казалось, сама исписала несколько страниц бумаги, так и не сдвинувшейся с места.
Это я, нечего и сомневаться. Одна из форм лунатизма с направленной потерей памяти на фоне общей амнезии? Такое возможно – с медицинской точки зрения?
Да, такое возможно.
Встает вопрос: где находится ближайшая психиатрическая клиника?
Но никаким психозом я не страдаю, это я тоже знал. У меня нет галлюцинаций, отрыва от реальности, приступов бреда, никаких симптомов шизофрении, паранойи, навязчивых идей. Если бы я был душевнобольным, то я бы проснулся в отдельной палате психиатрического заведения.
Я догадывался, что проблема носит не совсем патологический характер. Конечно, она все равно тесно связана с моим мозгом и его функционированием, но я почему-то сомневался в том, что даже очень высококвалифицированный врач будет в состоянии мне помочь.
Мое положение могло облегчить только это сочетание чемодана, стопки бумаги и пишущей машинки. Его компоненты являлись движущими силами, способными связать мое создающееся будущее и разрушенное прошлое.