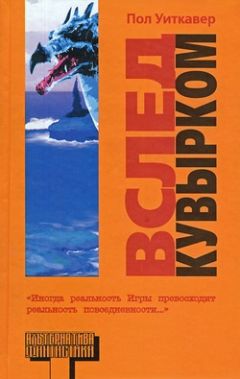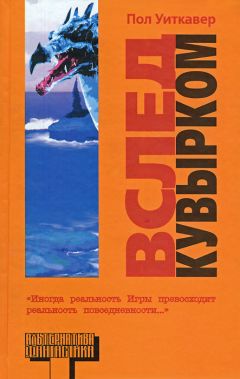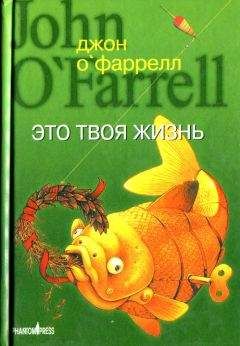– Любовь, как и все прочее – причуда Шанса.
Хотя голос ее нежен, в нем слышится печаль, и Чеглок думает, сожалеет ли она о своих чувствах к нему. Жалеет ли, что не сделала тогда свой спасительный бросок? Как это часто случалось в их отношениях, он чувствует, что не может увидеть их на всю глубину. Пути руслов ему непонятны. Совершенно нельзя прочитать по внешности, что делается у нее внутри, в этих черных глазах, в этом прекрасном и завораживающем переливе цветов по лицу и телу. Он знает каждый ее дюйм наизусть, как строчки сутур в «Книге Шанса» или узор разрезов на собственной коже, и все же – как эти строчки, эти линии, она остается загадочной. Обнимать ее, входить в нее еще не значит знать ее, тем более – обладать ею. Он понимает, что на самом деле хочет виртуализовать ее, завладеть не только ее телом, но и ее умом, ее чувствами, ее ощущениями. Самой ее сущностью. Это желание его удивляет и вызывает стыд: у него, оказывается, больше общего с Мицаром, чем он сам думал.
Моряна подается вперед и прижимается губами к его губам, легко, мгновенно, и тут же отодвигается и исчезает в стене, не успевает он среагировать, только как-то передав ему люмен из своей руки, и губы у него горят жаром украденного поцелуя.
Жаром…
Не страсти. Не любви.
Жаром лихорадки.
Внезапно ее слова ужасным образом обретают новое значение. Как Феникс и Халцедон, Моряна инфицирована. Она больна – может быть, умирает. Она прощалась с ним.
Чеглок с криком бросается за ней – и отлетает от стены. На миг, оглушенный, он только стоит и таращится. Он попал не на то место? Протянув руку, он ощупывает пальцами твердый камень. Водит руками по стене, ищет скрытый вход. Но его нет. И голос Полярис снова произносит слова: Если иллюзия обретает субстанцию, остается ли она иллюзией?
– Моряна! – кричит он. – Полярис!
Никакого ответа. Он бьет по стене кулаками, но тщетно. И при здешнем гасящем поле псионика его слишком слаба, чтобы от нее был толк.
Селкомы сделали стену сплошной, превратив иллюзию в материю. Но зачем? Это работа шпиона? Если да, почему Мицар не помешал ему? И что случилось по ту сторону стены? Пытаются ли товарищи к нему пробиться?
– Мицар! – кричит он во весь голос. – Да ответь же ты, Шанс тебя побери!
Невидимый молчит.
Впрочем, какой-то ответ есть.
Зеленая светящаяся кнопка начинает мигать.
Полярис предупреждала, чтобы он ее не трогал. Но у Чеглока уже нет выбора. Если они – кто бы они ни были – хотят его смерти, существуют более простые способы этого добиться. Это приглашение. Или команда. Он соображает, что все это может происходить в Сети, быть еще одной извращенной игрой Мицара. Но даже если так, у него нет другого выхода – только продолжать игру. Глубоко вздохнув, Чеглок нажимает кнопку.
Щелчок. Кнопка гаснет.
И люмен вместе с ней, зажечь его снова не удается. К счастью, в рюкзаке есть еще. Когда он снимает рюкзак с плеч, платформа вздрагивает и падает вниз, застав его врасплох. Оступаясь в темноте, он вспоминает, как летели мимо стены на прошлом спуске, пытается поднять хоть сколько-нибудь ветра, чтобы остановиться или хотя бы смягчить удар.
Бесполезно. Слишком сильно гасящее поле. Удар швыряет его вверх, подбрасывает… он инстинктивно расправляет крылья.
Что-то хрустит, как сломанная ветка. Шанс, говорит он про себя, крыло…
Вспышка боли гасит все мысли, все ощущения.
* * *
На той стороне, под другим солнцем, каноэ вплывает в узкий рукав устья ручья Мельника, которого нет ни на одной карте, только у них. Слышно лишь мерное падение капель с весел, успокаивающий шелест болотных трав, проплывающих мимо бортов, дрожащее гудение мириадов невидимых насекомых да очень далекий, приглушенный рокот моторок. Джеку жарко, он взмок от пота, репеллента и лосьона от солнца. Руки ноют от гребли; если опустить весло вертикально, оно упирается в мягкое илистое дно, отсюда вода мелеет с каждым гребком. Мысли дрейфуют по безоблачному небу мозга, как эйры, парящие в восходящих потоках над Фезерстонскими горами. Прицепившись к серебристым стеблям трав, футах в двух-трех перед глазами висят извитые раковины улиток, маленькие и черные, как семечки яблок, похожие на арабские минареты, и в каждой, быть может, скрывается джин: скопившиеся тысячами желания, созревшие, чтобы их сорвать. Парят и пикируют вниз стрекозы, трепеща радужными крыльями, сквозь которые просвечивает полоска тела; они блестят, будто алмазные иголки, сшивающие расползающуюся ткань дня. Маленькие желтокрылые бабочки порхают беззаботно, словно собираются жить вечно. Болотные испарения несут запах гнили и растительности, напирающей со всех сторон.
Падает рубиновая капля между ногами в кроссовках, потом другая; собравшаяся вода, стоящая лужицей на неровном днище каноэ, расцветает маковым цветом. Руки Джека пропускают гребок. Весло повисает недвижно, как и сердце.
Еще капля. Он смотрит, как она падает в воду, чувствует, как в груди что-то взорвалось. Воспоминания открываются в мозгу, словно цветы, вложенные один в другой. Я это сделал, думает он в дезориентации своего последнего пробуждения. Я сделал так, чтобы это случилось.
Он открывает рот, хочет сказать… что? Нет, этой ошибки он не повторит. Он ничего не скажет Джилли. Именно здесь эта реальность отличается от предыдущей. Больше не будет этого неуклюжего признания, не будет ссоры на воде, не будет заплыва в бухту со злости. Здесь поставленная для этого дня простая цель останется нетронутой, неизменной.
И так лучше, понимает он. Легче, когда Джилли не знает, не помнит. Теперь он это понимает, хотя раньше не понимал – его сила оказалась умнее его самого. Но какие же еще изменения, кроме очевидных, отличают этот мир? Он вытирает нос, потом вытирает пальцы о борт каноэ, чтобы смыть кровь.
Джилли чувствует, что он перестал грести. Еще секунда – и она обернется посмотреть, в чем дело. Заметит, что у него кровь из носа, и снова возникнет тот же вопрос. Он это видит так, будто это уже случилось.
– Не смотри, – предупреждает он, хотя его слова могут послужить и приглашением.
– А почему? – спрашивает она, намеренная именно посмотреть.
– Я хочу отлить.
– Чего?
Но она останавливается.
– Я отолью с кормы.
И ему на самом деле надо, и он думает, не устроила ли сила и этого, заранее предусмотрев необходимость отвлечь Джилли.
У него кружится голова, когда он себе представляет гомункулярного Бобби Фишера, напряженно работающего у него в мозгу, расплетающего бесконечность возможных ходов и комбинаций многомерной шахматной партии, которую он вдруг должен разыгрывать с середины. А тем временем здесь и сейчас оказывается, что есть технические трудности, связанные с попыткой отлить с кормы каноэ.
– А подождать не можешь? Мы уже почти приплыли.
– Это всего секунда.
Он кладет весло наискось поперек каноэ, потом не слишком осторожно передвигается боком, как краб, пока не оказывается ногами на сиденье. Лодка под ним опасно качается.
– Джилли, подержи ее ровно.
– Только ты побыстрее.
Она опускает весло с той же стороны. Прозрачная вода ручья поднимается по веслу более чем наполовину, пока оно не упирается в дно. Качка прекращается. Чернильное облако всплывает к поверхности.
– Чего такая спешка?
Джек оттягивает плавки спереди и посылает свой поток дугой через борт. Струя блестит на солнце, как лимонад. Кровь из носа уже не идет, и это хорошо, потому что он знает: Джилли смотрит.
– Не только тебе отлить надо, – говорит она. – Иногда я жалею, что я не мальчишка. Многое было бы проще, а девочкам это труднее.
Джек пожимает плечами, которые уже припекает солнце. Какая девчонка в здравом уме не пожелала бы быть мальчишкой?
Течение принесло обратно к нему облако ила. Клубящаяся чернота напоминает, как выглядело небо в ураган. Он прицеливается в это облако, но оно слишком плотное, чтобы его рассеять, слишком темное, чтобы стать светлее.
– А что ты чувствуешь, когда выпускаешь? Щекотно?
– Да ну, Джилли, не знаю! – Он отряхивается, сбрасывая последние капли, потом поднимает плавки и осторожно садится снова. – Никогда не задумывался. А что? У тебя щекотно?
– Бывает. – Она снова оборачивается лицом вперед. – Но сейчас мне уже точно надо.
Она снова гребет, он присоединяется.
На мелководье у крабов суматоха. Джек с интересом смотрит, как они разбегаются от бортов надвигающегося каноэ. Джилли подцепляет веслом большого краба, пытаясь выкинуть его из воды, но он отбегает боком, угрожающе подняв клешни, а бешено дергающиеся ноги поднимают дымовую завесу ила. Джилли смеется:
– Смотри, как этот Джимми задал деру!
Местное прозвище самцов-крабов – нескончаемый источник восторга в семействе Дунов. Самки называются Зуук, и стало традицией во время походов за крабами доставать дядю Джимми вопросами о его мифической жене, тете Зуук. Сложился целый репертуар вроде комиксов на ходу, выдержки из которых Джек невольно повторяет сейчас.