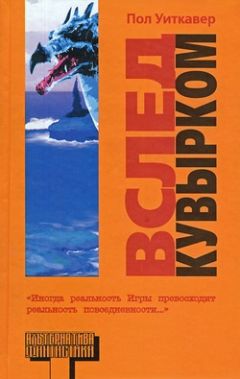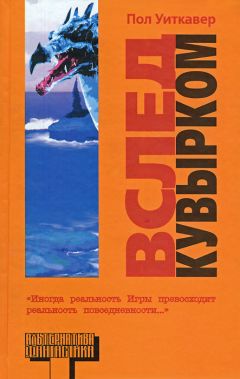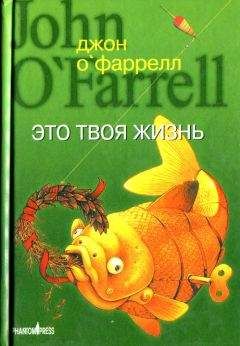– Ух ты! А я то всегда думала, что «позеленел» – это такое образное выражение.
– Извините, – бормочет он, вежливый до конца, ковыляет мимо нее к краю тротуара, сгибается пополам и выкладывает на улицу содержимое своего желудка.
– Оуууу! – звучит ее голос совсем рядом.
Он стонет от страдания и унижения и падает на колени, выворачиваемый наизнанку очередным спазмом.
– Ну-ну, – говорит она. – Даже не надо читать твои мысли, чтобы узнать, что у тебя было вчера на ужин.
– У… – он хватает ртом воздух, – …ходи!
– Еще чего! – доносится негодующий ответ. Рука подхватывает его под мышки и тянет вверх. – Вставай, летун.
– Оставь меня в покое.
Он дышит тяжело, надеясь, что спектакль окончен, но боясь, что это всего лишь антракт.
– Здесь нельзя сидеть.
Он нашаривает мех с водой, набирает теплой жидкости в рот и сплевывает в сточную канаву.
– Я не сижу. Я стою на коленях.
– Хочешь стоять на коленях? Иди в казино. – Она снова его тянет.
– Хватит меня дергать! Это назойливо. Вы очень назойливы.
– Это ты меня еще не видел, когда я назойлива.
Чеглок сердито оборачивается к своей мучительнице. Она ухмыляется в ответ, синие глаза искрятся весельем. Но за этим весельем – целеустремленность, которая заставляет Чеглока понять, что у него нет ни единого шанса. Кроме того, пока что он не забыл, где находятся он и те мьюты, что идут по улице и по тротуару. Одно дело смотреть на их ботинки и на грязные босые ноги рабов и разрисованные колеса экипажей, и совсем другое – ловить на себе неодобрительные взгляды, оценивающие это печальное зрелище: его самого. Вот так он и представляет здесь Эйрленд и Вафтинг, думается ему, и в нем вспыхивает стыд, пережигающий предохранитель злости. Может, не надо было вчера столько пить и курить, но эта чертова тельпица не имела права на него налетать вот так, как она налетела. Это она шла невнимательно, слишком погруженная в их дурацкую Сеть, чтобы замечать реальный мир.
– Послушайте, если я встану, обещаете вы от меня отстать и просто уйти?
Она проводит по лемнискате у себя над сердцем:
– Слово тельпа.
Он со вздохом протягивает руку, позволяя ей поднять себя на ноги второй раз.
– Вот. – Она протягивает свой платок, предлагает его Чеглоку подчеркнуто вежливым жестом. – Ну, не так уж оно страшно? Как себя чувствуешь?
– Как будто мой желудок сам решил пройти Испытание, и не прошел.
Он берет платок, вытирает губы, потом складывает вдвое и промокает нос.
– Ты паломник? – спрашивает она.
Он устало кивает.
– Какое совпадение! Я тоже. Мои поздравления!
– Гм, да. И вам тоже. – Чеглок сворачивает окровавленный платок пятнами внутрь, белым и чистым наружу, и снова трогает нос. Кровь остановилась, взятая под контроль селкомами. – Возьмите ваш платок.
– Считай, что это подарок к Испытанию.
– Спасибо, – говорит он, намазывая хлеб эйрийской вежливости толстым слоем сарказма, и сует платок в карман. – Скажите, вы не знаете самый короткий путь отсюда к площади Паломников?
– Шутишь? Я этот город знаю как свои пять пальцев. – Она поднимает эти самые пальцы и машет перед ним. – Ладно, может, увидимся. Пока!
Не говоря больше ни слова, она поворачивается на каблуках и уходит в сторону Атлантик-авеню.
Он настолько ошеломлен, что не сразу кричит ей вслед:
– Погодите!
Она поворачивается и смотрит на него.
– Вы не хотите мне сказать, как туда добраться?
– Я обещала к тебе больше не приставать и уйти, а свое слово я держу.
И идет дальше.
Чеглок бросается за ней:
– Эй, постойте!
Она прибавляет шагу, заставляя его перейти на рысь, ныряя между пешеходами, мех с водой болтается и колотит по боку. Когда он ее догоняет, она уже вышла на Атлантик-авеню. И не останавливается и даже не показывает, что его заметила. Наконец он в злости и досаде хватает ее за руку.
Она выдергивает руку, поворачивается к нему:
– Такого грубияна я еще не видела среди эйров!
– Простите, но вы не останавливались.
– И это дает тебе право на меня набрасываться?
– Я бы не назвал это…
– Этот эйр к вам пристает? – перебивает прохожий шахт.
Он ростом еще ниже тельпицы, но массивные руки вдвое толще, чем у Чеглока ноги, и вид у него такой, что он с удовольствием кого-нибудь покалечит. Когда имеешь дело с шахтами, лучший способ выжить – не нарываться, но Чеглок уже не думает об осторожности.
– Не ваше дело, – отрезает он. – Вас никто не просил вмешиваться.
– «Что касается одного, касается всех», – с нажимом цитирует шахт «Книгу Шанса», как какой-нибудь Святой Метатель на проповеди. Глаза его скрыты очками такими темными, что вообще непонятно, как он что-нибудь видит. Чеглок высматривает на темной куртке шахта какие-нибудь знаки различия или власти, но не находит. Что, однако, не исключает возможности, что это, хвост линялый, Невидимый…
– Все нормально, – говорит тельпица. – Он приставучий, но безвредный.
– Это я приставучий? – Ну, это уж слишком. – Сперва вы меня сбиваете с ног и разбиваете нос, потом, когда я задаю простой вопрос, как попасть на площадь Паломников, вы бежите прочь, как…
– О Шанс, это все, что вы хотите знать? – снова перебивает шахт. – Это просто. Держитесь…
– Держи себя в руках, он хочет сказать, – перебивает звонким голосом тельпица, взглядом заставляя шахта замолчать. – И слушай, летунок, внимательно, потому что второй раз повторять не буду.
Через десять минут Чеглок начинает подозревать, что его обманули. Еще через пять минут он в этом уверен. Кипя злобой, он не сомневается, что все встречные видят, что с ним случилось и смеются над его положением. Чеглок пытается вернуться по своим следам и еще больше запутывается. Но сейчас уже хорошо после полудня, день жаркий, мех с водой пуст. А хуже всего, что похмелье, ослабевшее до дальней пульсирующей боли, начинает возвращаться.
Наконец, склоняясь перед неизбежным, Чеглок сует гордость в карман и спрашивает у проходящего Святого Метателя дорогу к площади Паломников. Жрец, русл, слушает горестную повесть не мигая, потом без слов достает две четырехгранные кости из складок пестрой рясы. Отщелкнув на декоративно большой пряжке пояса крышку, образующую небольшой серебряный столик, он рисует в воздухе лемнискату. Чеглок играет концом цепочки в ухе, глядя на жреца, а тот с завораживающим изяществом, присущим самым незначительным жестам руслов, три раза быстро мечет пожелтевшие кости, потом складывает столик обратно в пряжку, прячет кости куда-то в рясу, поправляет пояс, прокашливается и смотрит Чеглоку прямо в глаза.
– На площади Паломников для тебя ничего нет, – говорит он.
– К-как? – Чеглок ошеломлен, возмущен, это уже последняя капля. – Это какая-то ошибка, Ваша Случайность! Я же прошел Испытание!
– Кости не лгут.
Русл говорит без выражения, голос его ровен, как камбала. Чешуйки на голове – те, что видны Чеглоку, – тусклые, как старое олово, оплетены, будто паутиной, сетью шрамов от разрезов, но невредимая чешуя на руках сверкает на солнце, словно вода, колеблемая бризом, играя цветом рясы и отбрасывая водопад цветных зайчиков. Миндалевидные глаза – сплошь чернота; даже с такого близкого расстояния не видно ни склеры, ни радужки – один только зрачок. Глаза не моргают, и Чеглок находит в них лишь свое отражение.
– Я не понимаю, – говорит Чеглок сдавленным голосом. Гнев выходит из него вихрем, раскручиваясь спиралью в самые глубины этих бездонных глаз. – Это ошибка, Ваша Случайность? Я провалил Испытание? Что вы хотите мне сказать?
– Возвращайся в свое жилище, – говорит Святой Метатель не без доброты в голосе.
– Н-но… я же не знаю дороги, – произносит Чеглок, сдерживая слезы.
– А это я могу тебе подсказать, – говорит жрец и объясняет дорогу.
* * *
– А вон еще кто-то едет. – Эллен отрывается от букв и прислушивается к шуму машины, ползущей по шоссе № 1 на север, к Реховот-бич. За последние три часа, когда ураган стал сильнее, движение по шоссе, видимое сквозь незакрытые щитами окна береговой стороны дома, снизилось от постоянной цифры три-четыре машины в минуту до случайной одинокой легковушки, фургона или пикапа. – Я думаю, нам стоит уехать. Я думаю, нам давно уже надо было уехать.
Билл пожимает плечами, не отрываясь от спинки стула, не отводя глаз от телевизора, где крутится старый черно-белый вестерн в снежной буре помех. Громкость выведена на ноль, последние сообщения о погоде и советы гражданской обороны ползут внизу экрана. Ветер, будто живой и целенаправленный в своей сдержанной пока ярости, дует и плюется, воет в печной трубе, как армия волков, а волны дождя хлещут диссонансной музыкой по дому и почти заглушают гудение объявлений по радио, где сообщается об урагане.
– Что ты думаешь, все уже знают, Эл, – говорит Билл. – Но мы останемся. Попробуй все-таки верить если не в этот дом, то хотя бы в своего отца.