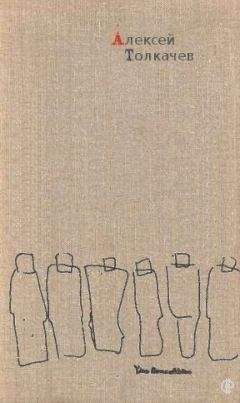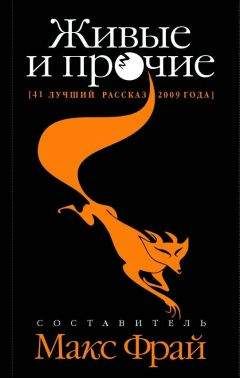Анатолий, ну вот смотри сам. Вот взять меня. Я ж обычный пацан был, не до фига умный, не до фига талантливый. Но вижу: надо достойным делом заняться. Пошел в армию. Служил добросовестно и честно. И посмотри теперь: именно мне и двум моим товарищам поручено дело мировой важности. Видишь вон там эту громадину размерами с девятиэтажный дом? Знаешь, что это такое? Это подводная лодка с ядерными ракетами на борту. Мы ее втроем (втроем!) снизу сюда доперли, а к завтрашнему вечеру на ту сторону к подножью гор спустим. И встанем на боевую вахту. И если на Кавказе дела пойдут неспокойно, а на Кавказе дела всегда идут неспокойно — мы первым залпом долбанем по Кавказу и сотрем его, на хрен, с лица земли. Потом, не мешкая, вторым залпом ударим по Америке. Если этого не сделать — они такую заваруху устроят, что Отечеству нашему придется несладко. Но мы успеем! Грамотный ядерный удар — и в Америке уже некому устраивать заварухи. Ну и далее — последний, третий залп. Уже по нашему Отечеству. Чтоб не мучилось. Поскольку после первых двух залпов на планете будет уже не жизнь, а недоразумение — сплошная экологическая катастрофа. Но ракеты, запущенные с нашей субмарины, обеспечат нашему святому Отечеству легкий, быстрый и достойный конец. Ключевое слово, Толик: достойный! Толик, ты хотя бы понимаешь величие и красоту исторического момента?
Толик сидит, курит и улыбается.
Толик! Толик-алкоголик… Дурилка ты картонная, ну ты ж пойми: подходит к концу история великой цивилизации! Задумайся, сколько всякого разного успело произойти на этой планете! Ведь здесь древние египтяне возводили в пустыне гигантские пирамиды, и теперь никто уже не успеет разобраться, как именно они это делали. Здесь Одиссей, возвращаясь домой с Троянской войны, проходил между Сциллой и Харибдой, проплывал мимо острова сирен и сражался с циклопом… Здесь король Артур сиживал за круглым столом со своими рыцарями. Здесь гордые пикты умирали, так и не открыв шотландскому королю секрет верескового меда. Здесь Д'Артаньян рыдал над телом Констанции. Здесь датский принц спрашивал: «Быть или не быть?» Здесь полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспоминал тот день, когда отец привел его посмотреть на лед. Здесь бился со змеями Рикки-Тикки-Тави. Здесь Станиславский сказал: «Не верю», а Гагарин сказал: «Поехали!» Здесь, на этой планете… В Париже Колен любил Хлою, в Японии журналист охотился на овец, а в стране игрушек Кристофера Робина плюшевый мишка сочинял кричалки и вопилки. В стране Испании художник Пикассо, умирая, сказал: «Выпейте за мое здоровье. Сам я уже не могу больше пить», а в стране Англии бас-гитарист сэр Пол МакКартни написал об этом песню. Население этой планеты создало бесконечное количество песен, и некоторые из них по сей день еще поет Михалыч — хозяин туристического приюта «Горный»…
Понимаешь ли ты, Толик, ЧТО уходит в небытие? Уважаешь ли меня за то, что именно мне доверено нажимать на красные кнопки? А себя, в своей никчемности, презираешь ли?
Похоже, Толик безнадежен. Сидит, курит, слушает магнитофон. А там Гребенщиков:
Я ведь только пытался растить свой сад
И не портить прекрасный вид…
Вот! Толян, дружище мой милый, ну прислушайся хотя бы к кумиру нашей молодости, к БГ! Ведь он что говорит: «Не портить прекрасный вид»! А ты портишь прекрасный вид, Толик! Ты портишь его. Зачем ты — небритый, нетрезвый, в рваных джинсах, явился в мое чистое сознание на этом сияющем леднике в канун прекрасной смерти прекрасного мира?
ПИФПАФ
(транс-хаус-микс Пушкина и Тургенева)
Хип-хоп литература. Делаем как ди-джеи: берем два известных произведения и микшируем их кусочки. Получаем новое, третье произведение. От себя не добавляем ни единого слова. Вот таким вот методом был сделан нижеследующий рассказ.
Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.
Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным — мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рожденья. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость и крутой нрав имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых — дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он о Петров день так сокрушительно сажает пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. А каково стрелял он! Бывало, увидит он, села на стену муха — Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп, и вдавит муху в стену! И опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув пистолеты, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж…
Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. (Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим армяком). Жил Герасим (так назову его) вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось при том рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать.
Нечаянный случай всех нас изумил. Однажды человек десять наших офицеров обедали у Герасима. Пили по обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Герасим имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтеру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал остальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему. Даже петухи при нем не смели драться, а то беда! Увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь.
Но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный, по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в *** бы жить, без дела, в каком-то захолустье, и если пил, как он сам выражался с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Герасим взял мел и уровнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Герасим молча продолжал метать. Климов, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Герасим взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным, и в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Герасима, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Герасим встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сделал знак рукою у своей шеи, как бы затягивая петлю и значительно ударил себя в грудь. Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Все тряхнули головами:
— Он сделает, коли обещал. Уж он такой… Уж коли он обещает, это наверное. Он на это не то, что наш брат. Что правда, то правда. Да.
Настала ночь, лунная, ясная. Капитона Климова отыскали где-то на улице. Герасим…. (в эту минуту он был, право, ужасен) проворно н безостановочно молотил трехаршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей.
Так прошел год.
Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например, об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Герасим получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа, — растолковал им знаками Герасим, — обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз».