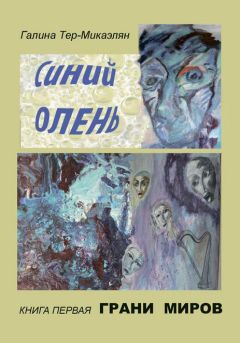Возможно, конечно, она захочет продемонстрировать характер, но скорей всего примет извинения и согласится приехать, чтобы занять оставленное для нее место за столом. А потом… потом все будет по-прежнему — ее мягкое податливое тело, ее стыдливые объятия, ее нежное, заботливое понимание и… и внезапно перед ним вновь встало лицо Лины с полузакрытыми глазами. От томного взгляда из-под ресниц внутри у него все оборвалось, горячее дыхание ощутимо, как наяву, обожгло щеку, и страстный голос отчетливо шепнул в самое ухо: «Сереженька!». Пытаясь унять внезапно заколотившееся сердце, Сергей резко тряхнул головой, но видение не уходило. Злясь на самого себя, он думал:
«Мужик я или дерьмо собачье? Наверное, она сейчас обсуждает меня со своим Степанко, и оба покатываются с хохоту — взрослый мужик, а попался на удочку, как зеленый мальчишка. А как вспомню, какие слова я ей говорил, боже мой! Ни одной женщине я за всю свою жизнь не сказал столько нежных слов! Но самое унизительное в том, что даже теперь, зная, что она собой представляет, я не могу ее забыть. Нет, я должен… я непременно должен ей доказать, что она для меня пустое место — пшик! Что я… что я просто развлекся с ней, как… как с первой попавшейся проституткой. Вот, что я сделаю: я… я женюсь на Вале! Она хорошая, милая женщина, я ее уважаю, и духовно мы тоже очень близки, а в семейной жизни это важней всего. Да, решено, я женюсь на Вале! Прямо сейчас, пока еще гости не расселись по местам, я встаю, иду в прихожую, звоню ей и… Ну?! Раз, два три!».
Ноги его дернулись, приняв положение «на старт».
— Вам первое слово, как самому старшему, Сурен Вартанович, — почтительно сказал Петр Эрнестович, повернувшись к Оганесяну.
— Как всегда, — шутливо проворчал тот, — первое слово Сурену Вартановичу, первый ремень в детстве всегда Сурику, как самому старшему, доставался. А первым из всего профессорско-преподавательского состава посадили кого? Конечно же, гражданина Оганесяна!
Раздался взрыв смеха — все знали, что весной тридцать четвертого Сурен Вартанович был арестован из-за рассказанного студентам на лекции анекдота двусмысленного толка. Герой анекдота носил длинные усы, был сухорук и, главное, говорил с грузинским акцентом. Возможно, что этот ранний арест спас Оганесяну жизнь — все его друзья, которых взяли после убийства Кирова, были расстреляны, а весельчак-профессор отделался тремя годами ссылки. Он был одним из тех, кто во время войны принимал участие в создании пенициллина, и именно под его руководством Петр Муромцев и Андрей Камышев в начале пятидесятых защитили свои кандидатские диссертации.
Сейчас оба они поглядывали на своего бывшего учителя со скрытой тревогой — за последнее время шутник и балагур Оганесян сильно сдал. Два месяца назад Сурен Вартанович сам поставил себе диагноз — мелкоклеточный рак легкого, — но никому об этом не сообщил. Несмотря на все уговоры друзей, он наотрез отказывался показаться коллегам-врачам и при этом шутил:
«В Тулу, мои хорошие, со своим самоваром не ездят, вот так-то».
Жена его, Шушик Акоповна, была единственной, кто ни на чем не настаивал — шестое чувство давно сказало ее сердцу правду. Держаться спокойно, как ни в чем ни бывало, поддерживать шутки мужа, отвлекать его от грустных мыслей — вот и все, что ей оставалось. И теперь, взглянув на него с нарочитой суровостью, она строго произнесла:
— Сурик джан, будь серьезным, наконец! Встань и скажи, как тебя люди просят!
Держа в руке бокал с вином, академик поднялся, и Сергей с невольным вздохом облегчения вновь расслабился, прочно усевшись на своем стуле, — пока старик говорит, выйти из-за стола и пойти звонить было бы крайне невежливо.
— Сегодня, спустя двадцать лет после окончания этой страшной войны, — сказал Оганесян, став вдруг непривычно серьезным, — за этим столом нет человека, который не принял бы в ней участия и не приблизил бы день Победы. Кто-то делал свое дело на передовой, кто-то в тылу, а кто-то просто подрастал, чтобы в будущем сменить старшее поколение, — он бросил ласковый взгляд в сторону Сергея. — У многих из нас по ту сторону страшной черты, именуемой смертью, остались родные и близкие. Они — часть нашей жизни, часть нашей души, наша память. Мы никогда их не забудем, они будут жить, пока живем мы. Но уже подрастает поколение, которое знает о войне лишь понаслышке. Через тридцать или сорок лет они будут хозяевами жизни, а мы уйдем в небытие. Я уйду, наверное, раньше всех, но я не в претензии — это суровый закон природы. У меня хорошие дети, хорошие внуки — когда пробьет мой час, они погребут мое тело, как и положено по всем человеческим законам. Только в последнее время меня беспокоит мысль: что будет с моей памятью? Неужели она умрет вместе со мной? И вместе с ней умрут мои Ашот и Вартанчик? Нет, их имена останутся, конечно, в военных архивах, в старых альбомах есть их фотографии, но никто уже не вспомнит их такими, какими они были в действительности — живыми, настоящими.
Старик беспомощно и вопросительно оглядел окружающих большими лучистыми глазами и неожиданно заплакал. Все знали, что на войне у него погибли брат и любимый сын, но прежде он никогда не говорил о них при посторонних. Шушик Акоповна тревожно погладила руку мужа:
— Сурик-джан, успокойся, не надо.
Сурен Вартанович опомнился и вспомнил, что должен завершить речь, — Вечная память! — он залпом опустошил свой бокал и сел.
Сергей дотронулся губами до края своей рюмки, поставил ее на стол, и посмотрел на сестру. Лицо Ады Эрнестовны было неподвижно, по щеке медленно сползала слеза. Остальные гости, подавленные печальной речью старого академика, пили и закусывали в полном молчании.
Вскоре, однако, разговор вновь оживился. Из кухни вдруг потянуло пряным ароматом тушеного мяса, и Злата Евгеньевна, очнувшись, бросила быстрый взгляд на мать Вали Синицыной. Стараясь никого не беспокоить, обе женщины поспешно выбрались из-за стола и устремились на кухню. Сергей подумал, что если уж звонить Вале, то удобней всего сделать это сейчас, пока все заняты вином и салатами. Он осторожно поднялся и, выйдя в прихожую, застыл в нерешительности, положа руку на телефонную трубку.
— У вас дверь что, не закрывается? — бодро рявкнул за спиной незнакомый голос, заставив его подпрыгнуть от неожиданности. — А то мы зашли, а сами не знаем — туда, не туда. Муромцевы тут проживают?
На пороге распахнутой двери стоял коренастый круглоголовый генерал, а позади него топтался курносый мужчина в штатском с огромным букетом цветов.
— Да-да, заходите, пожалуйста, — Сергей в растерянности покосился на увешанную орденами грудь генерала и невольно задержал взгляд на Звезде Героя.
— Сынок Петра и Златушки? — генерал встряхнул руку Сергея и подмигнул своему товарищу: — Похож ведь, что скажешь, Митяй? Вылитый Муромцев! Как зовут?
— Сергеем. Но я не…
Гость, не слушая, добродушно отмахнулся от лепета стоявшего перед ним смущенного молодого человека. Судя по багровому лицу генерала и исходившему от него резкому запаху перегара, он уже начал — и довольно давно — отмечать день Победы.
— Ладно-ладно, зови папку с мамкой.
— Царенко? — в дверях кухни, с испуганным лицом прижимая к груди полотенце, застыла Злата Евгеньевна.
— Принимай гостей, Злата, — генерал бесцеремонно отобрал у топтавшегося позади него товарища букет, вложил цветы в руки неподвижно стоявшей женщины и, обняв ее, троекратно облобызал. Из-за его плеча застенчиво выглянул мужчина в штатском.
— Здравствуй, Злата, с праздником тебя.
— Здравствуй, Митенька, — она осторожно высвободилась из объятий Царенко, аккуратно положила букет на тумбочку и, глядя куда-то в сторону, спросила: — А Валя Павлюк где же?
— Передает свои пожелания, хотел приехать, но после парада рана у него на ноге разболелась, пришлось отменить, — гулко грохоча на весь дом, объявил генерал и, обернувшись, увидел вышедшего в прихожую Петра Эрнестовича. — А, Муромцев! Ну, встречай командира, военврач второго ранга.
Он бодро встряхнул и энергично потряс неподвижно висевшую вдоль туловища руку Муромцева, которую тот, казалось, не собирался ему подавать.
— Ой, здравствуйте! — мать Вали Синицыной вышла из кухни, держа на вытянутых руках чугунок с тушеным мясом, и с уважением уставилась на Звезду Героя Советского Союза, поблескивающую на груди генерала.
— Здравия желаю, хозяюшка! — генерал по-свойски подмигнул ей, бесцеремонно принюхался и одобрительно потер руки: — М-м-м! Мы, кажется, как раз вовремя, чуешь, Митька?
Не дожидаясь приглашения, он шагнул в сторону гостиной, безошибочно определив по звуку доносившихся оттуда голосов, что именно там находятся гости.
— Здравствуй, Митька, я очень рад тебя видеть, — крепко обняв мужчину в штатском, негромко сказал Петр Эрнестович. Тот смущенно потупился: