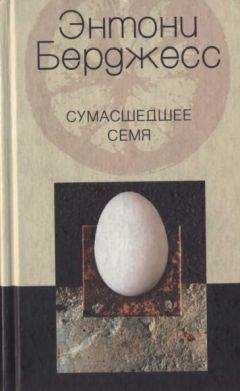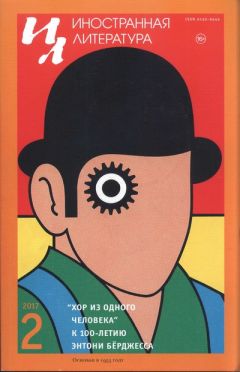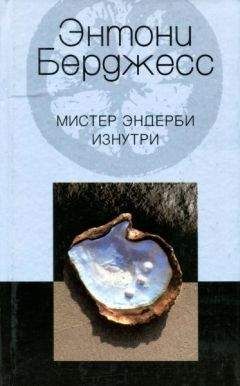— Ну, — сказал водитель, держа большой руль по диаметру, — по-моему, все это долго продолжаться не может, мистер.
— Нет, — энергично согласился Тристрам.
— Тогда скажите мне, мистер, — сказал водитель. — Как по-вашему, кто это будет? — Он громко причмокнул, посасывая естественный премоляр, моложавый пухловатый светловолосый мужчина в засаленной фуражке.
— А? — сказал Тристрам. — Боюсь, я не… боюсь, я что-то другое имел в виду.
— Боитесь, — с удовлетворением повторил водитель. — Вот именно. Точно сказано. Скоро многим придется бояться, мистер, и вам в том числе, осмелюсь сказать. Только война обязательно будет. Конечно, не потому, что ее кто-то хочет, а потому, что есть армия. Тут армия, там армия, по всей лавочке армии. Армии для войны, а войны для армий. Это только простой здравый смысл.
— С войной покончено, — сказал Тристрам. — Война вне закона. Войны не было много, много, много лет.
— Тем больше причин для войны, — сказал водитель, — раз мы без нее так долго обходились.
— Но, — взволнованно сказал Тристрам, — вы не имеете представления, что такое война. Я читал книги про старые войны. Они были ужасны, ужасны. Были ядовитые газы, которые превращают кровь в воду, бактерии, уничтожавшие семена в целых странах, бомбы, за долю секунды крушившие города. Со всем этим покончено. Должно быть покончено. Мы не можем опять это все пережить. Я видел фотографии, — содрогнулся он. — Фильмы тоже. Старые войны были просто жуткими. Насилие, грабеж, пытки, поджоги, сифилис. Немыслимо. Нет-нет, больше никогда. Не говорите подобных вещей.
Водитель легко покручивал руль, поводя плечами, точно плохой танцор, потом сильно причмокнул.
— Я не такой тип имею в виду, мистер. Понимаете, я говорю про бои. Армии. Одна дерется с другой, если вы понимаете, что я имею в виду. Одна армия стоит лицом к другой, как, например, две команды. А потом одна стреляет в другую, и стрельба продолжается, пока кто-то не свистнет в свисток и не скажет: «Вот эта победила, а вон та проиграла». А потом раздадут увольнительные и медали, и девчонки все выстроятся в ожидании на вокзале. Вот какую войну я имею в виду, мистер.
— Но кто, — спросил Тристрам, — с кем пойдет на войну?
— Ну, — сказал водитель, — решат, правда? Как бы организуют все, правда? Только, попомните мои слова, будет так. — Груз позади него плясал, весело громыхая жестью, когда проезжали по горбатому мосту. — Пал смертью храбрых, — сказал вдруг солдат с неким самодовольством. Батальоны жестянок с мясом звонко зааплодировали, точно какая-нибудь гигантская грудь, увешанная медалями.
Тристрам доехал в фургоне военной полиции от Уигана до Стэндиша, потом дорога вдруг опустела. Он медленно, с некоторым трудом шел полнолунной ночью, левая нога доставляла проблемы, — натертая мозоль и протертая до чистой дыры подметка. Все-таки он браво шаркал, впереди трусило тихое возбуждение, высунув язык; ночь плелась вместе с ним к утру. В Лиленде ноги предложили передохнуть, но сердце этого не желало. Дальше, к рассвету в Престоне: там дух перевести, может быть, получить благотворительный завтрак, потом к цели в трех милях на запад. Утро и город неуклонно приближались.
Что за звон? Хмурясь, Тристрам сунул в уши мизинцы, с оглушительным грохотом сотрясая серу. Автоматически понюхал испачканный серой копчик пальца (все телесные секреты пахнут только приятно), вслушиваясь. Колокол звенел в мире, не у него в голове: он лязгал в самом городе. Колокола приветствуют пилигримов? Вздор. К тому же это и не колокол: электронная имитация колоколов медленно пульсирует из сотрясавшихся рупоров, извергая металлический фонтан гармоничного, сводящего с ума серебра. Тристрам, гадая, приближался. Он вошел в Престон в разгар утра и был поглощен толпами и ликующим звоном, крича окружавшим его незнакомцам:
— Что это? Что происходит?
Они смеялись в ответ, глухие, немые, шевеля губами в безумном водовороте гремящего в ушах металла. Сотрясавшаяся бронзовая крышка опустилась в серебре над городом, чудесным образом пропуская как бы больше света. Люди направлялись к источнику сумасшедшего ангельского перезвона; Тристрам следовал за ними, входя словно в самое сердце звука, — звука как конечной реальности.
Анонимное здание из серого строительного камня — провинциальной архитектуры, не более десяти этажей, — громкоговорители торчат с крыши. Тристрам, толкаясь, вошел с лимонного солнца, внутри разинул рот над обширной кубической пустотой. Он никогда в жизни не видел такого огромного интерьера. Даже помещением не назовешь — зал, зал заседаний, ассамблея; должно быть специальное слово, он его искал. Импровизация: клетушки старого здания (квартиры или офисы) раскурочили, стены снесли, о чем свидетельствовали неровные остатки кирпичной кладки; расчистили, содрали перекрытия потолков-полов нескольких этажей, так что высота ошеломляла глаз. Тристрам узнал алтарь на возвышении в дальнем конце; ряды грубых скамей, сидевшие в ожидании люди, коленопреклоненные в молитве. Соответствующие термины со скрипом выныривали из прочитанного, как раньше из контекста, почему-то казавшегося аналогичным, вставали взвод, батальон. Церковь. Паства.
— Давка, как в старые добрые времена, приятель, — сказал позади добродушный голос. Тристрам сел на… на… — как сказать? На молитвенную скамью.
Священники во множестве мощно маршировали с большими толстыми свечами со взводом (нет, с причтем) мальчиков-служек.
— Introibo ad altare Dei…
Смешанные голоса летели в самую высь, с галереи в задней части здания ответила песнь:
— Ad Deum Qui laetificat juventutem meam[49].
Это был какой-то совсем особый случай. Как игра в шахматы конями и слонами, вырезанными из слоновой кости, а не вылепленными из кусочков тюремного мыла. «Аллилуйя», — непрестанно гремело в ходе литургии. Тристрам терпеливо ждал Причастия, евхаристического завтрака, но молитва перед едой была очень длинной.
Бык-священник с тяжелыми губами повернулся от алтаря к пастве, стоя на краю кафедры, благословил воздух.
— Братие, — сказал он. Спич, торжественная речь, обращение, проповедь. — Нынче Пасха. Нынче утром мы празднуем воскресение или восстание-от-смерти Господа нашего Иисуса Христа. Мертвое тело Его, распятого за проповедь Царства Божия и братства людей, сняли с креста, запечатали в земле, как в нее втаптывают сорняк или пепел костра, но все-таки Он на третий день восстал, осиянный славой, как встают на небе солнце, луна, все светила. Он восстал, засвидетельствовав всему миру, что нет смерти, смерть — только видимость, не реальность; воображаемые силы смерти — лишь тени, а их власть — лишь господство теней. — Священник мягко рыгнул на постившийся желудок. — Он восстал, чтобы превознести жизнь вечную, не призрачную белогубую жизнь в некоей мрачной ноосфере… — («И-и», — сказала какая-то женщина позади Тристрама), — а полную или единую жизнь, где планеты танцуют с амебами, великие неведомые макробы — с микробами, кишащими в наших телах и в телах наших братьев-зверей; вся плоть едина, и плоть также хлеб, трава, ячмень. Он есть знак, вечный символ, постоянное обновление, ставшее плотью; Он — человек, зверь, хлеб, Бог. Его кровь стала также и нашей кровью через акт освежения нашей — вялой, теплой, красной, свернувшейся в пульсирующих сосудах. Его кровь не только кровь человека, зверя, птицы, рыбы; это также дождь, река, море. Это пульсирующее в экстазе мужское семя и молоко, обильно источаемое матерями людей. В Нем мы едины со всеми вещами, и Он един со всеми вещами и с нами.
Сегодня в Англии, сегодня во всем Англоязычном Союзе мы радостно празднуем, с цевницами, псалмами, с громким аллилуйя, воскресение Князя Жизни. Сегодня также в дальних землях, отвергавших в бесплодном прошлом плоть и кровь Подателя Вечной Жизни, Его восстание из могилы приветствуется с радостью, подобной нашей, пусть даже под лицами и именами чужеземного значения и варварского звучания. — Мужчина справа от Тристрама нахмурился при этой фразе. — Ибо, хоть мы называем Его Иисусом, истинным Христом, Он все-таки за пределами всех имен и превыше них, поэтому, вновь восстав, Христос слышит, как к нему радостно обращаются и почитают под именами Таммуза или Адониса, Аттиса, Бальдера, Гайаваты, и для Него все едино, как едины все имена, как едины все миры, как едина вся жизнь.
Священник временно замолчал; из паствы доносилось напряженное покашливание. Потом, с уместной для религиозной проповеди неуместностью, он вскричал в полный голос:
— Итак, не бойтесь. Среди смерти мы в жизни.
— А-а-ах, чертов бред! — вскричал сзади голос. — Ты не можешь оживить мертвого всеми своими прекрасными речами, чтоб тебя разразило!