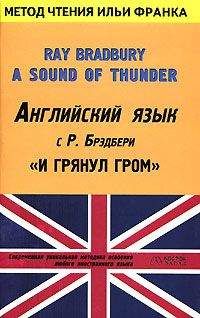«Весь мир театр», – сказал Шекспир.
Хоть это воистину так, пусть Канаверал станет Театром-прародителем, в котором мы будем славить наши дни, разжигать всяческие страсти и окунаться с головою в звезды.
Итак, на заключительном этапе перелицовки Канаверала будут приглашены актеры, которые будут играть – за ночь или за неделю до того, как столп пламени нас к Марсу вознесет. Затем из всех крупных городов мира – Ватикана, Вашингтонского кафедрального собора и Мормонского храма – надо созвать хоры и капеллы.
Им будут аккомпанировать самые блестящие симфонические оркестры с дирижерами из Рима и Парижа, Лондона и Филадельфии, исполняя музыку, сочиненную по случаю торжеств всеми величайшими из ныне живущих композиторов, на стихи, сложенные лучшими из ныне живущих поэтов.
И все это будет происходить в окружении виднейших священнослужителей, пасторов, раввинов, прессы и политиков со всех континентов, возносящих в небеса руки и голоса во славу величайшего избавления от гравитации, ограничений времени и Земного плена, дабы взмыть к Луне и Марсу, а в какое-нибудь доброе будущее время – к Плутону, а то и дальше.
Полагаю, публика должна быть светская: политики нашей страны и НАСА в нынешнем виде. Но в тот предстартовый вечер отделение церкви от государства можно было бы приостановить на несколько часов. Мы должны пригласить ватагу атеистов, агностиков, наводящих тоску, и, может быть, позвать даже Папу Римского участвовать в нашей Вечере. Если усадить Папу на одном конце Блока Сборки Аппарата, а нашего Президента и Королеву Англии – на другом, то чаши весов окажутся в идеальном равновесии, а между ними будет кишеть всяческая пестрая мелкая рыбешка.
А в заключение нашего симфонического певческого драматического театрального представления все пусковые башни на побережье мыса Канаверал должны разразиться величайшим в мире и в истории фейерверком, вычерчивая огненные купола взрывами на всех телеэкранах. С мыса Канаверал должна взметнуться струя звездного пламени, затмевающая сами звезды.
А тем временем неподалеку, на главной пусковой башне, будет дожидаться марсианская ракета, разрисованная символикой полетов и мечтаний о полете из всех исторических эпох… Крыльями, шарами, огненными колесницами Ассирии и греческими вечерами и парижскими восходами!
Вот вам и Причины.
И пустынный театр Канаверал-Кеннеди.
Канаверал-Кеннеди ждет и жаждет вознести ввысь нашу бренную плоть и исполнить наши мечты.
Чего же мы медлим?
Чего дожидаемся?
Ведь все системы вопиют:
– ВЗЛЕТАЙТЕ!
2001
Починка Железного Дровосека
Научная фантастика – с умом, и сердцем, и мужеством!
Весною 1954 года, когда я только-только закончил работу над сценарием «Моби Дика» для режиссера Джона Хьюстона, мой лондонский издатель получил письмо от лорда Бертрана Рассела [10], в котором тот благосклонно отзывался о моем последнем романе «451 градус по Фаренгейту».
Лорд Рассел приглашал меня навестить его ненадолго в какой-нибудь ближайший вечер. Я прямо-таки вцепился в эту возможность.
В поезде по пути к нему я запаниковал.
«Боже, – думал я, – что я могу сказать величайшему философу нашего времени? Я – лилипут, мельтешащий в его тени?»
В последний момент меня озарило – теперь я знал, как начать беседу. Я позвонил в дверь, и меня встретил невероятно дружелюбный лорд Рассел и усадил пить чай в компании леди Рассел.
В величайшем смущении я выдавил из себя:
– Лорд Рассел, несколько лет назад я предсказал своим друзьям, что если вы когда-либо задумаете писать короткие рассказы, то они неизбежно окажутся научно-фантастическими. Когда в прошлом году вышел ваш первый сборник рассказов, именно так и произошло!
– Действительно, – улыбнулся лорд Рассел. – О чем еще можно писать в наше время?
И наша беседа сорвалась с места в карьер.
То же самое можно было бы сказать и сегодня. Осмелюсь вообразить, что если бы Бернард Шоу был жив и нацеливался бы своей бородой на что-нибудь остро современное, то он стрелял бы зарядами научной фантастики.
Ибо разве не очевидно, в конце концов, что:
Те, кто не живет будущим, попадут в западню и сгинут в прошлом?
Равно, как и те, кто предает забвению историю, обречены пережить ее заново. Истина, высказанная выше, вдвойне актуальна. Ибо, посмотрите, что мы обсуждаем каждый божий день, час и минуту?
Будущее.
Больше обсуждать нечего!
Что ты будешь делать через час?
Это и есть будущее.
А завтра утром?
Это и есть будущее.
На той неделе? В следующий месяц?
Будущее.
В следующем году? Через двадцать лет?
То же самое.
Мы всегда строим планы на ближайшие минуты, времена года, на пору зрелости и увядания.
Так почему же квазиинтеллектуалы, просто интеллектуалы и прочие высоколобые мыслители относятся к научной фантастике с презрением? Или в упор ее не видят, если вообще о ней задумываются?
Конечно, большая часть научной фантастики пала под ножищами роботов.
Слишком уж многие одаренные воображением писатели за говорящими механическими деревами не увидели человеческого леса. Они с головой ушли в компьютеризацию ракет и редко задаются философским вопросом о том, на кой черт они нам вообще нужны!
Перечитывая пенталогию «Назад к Мафусаилу» и пространные примечания к ней, я жалел, что Шоу несколько лет всего лишь не дожил до появления замечательного мюзикла «Поющие под дождем». Почему? Усидел бы Старик в темноте кинозала, созерцая малоубедительное подобие насыщенной технологиями творческой жизни? Осмелюсь предположить, что да. Судя по названию, может показаться, что фильм изображает пляшущего оптимиста с зонтом или без оного, вымокшего до нитки, но не подозревающего об этом, ибо он влюблен в жизнь. Но едва ли в этом заключается философский смысл мюзикла.
Философский смысл?
Именно. Ведь этот фильм – фантазия на тему будущего в самый разгар Двадцатых годов, когда немое кино вдруг прокашлялось и принялось горланить песенки. Мало того, оно к тому же еще выпрямило спинку и заговорило! В двух словах, это фантазия о науке, которая превратилась в технологию, а последняя вживила в горло каждого черно-белого манекена на экране голосовой аппарат.
Насколько мне известно, «Поющие под дождем» – единственный когда-либо снятый научно-фантастический мюзикл. Сотрите музыку – все равно останется сюжет: изобретение звука и его сокрушительные последствия, или как выстроить простую, примитивную, но практичную философию, дабы восполнить пробел между немотой, потерей, а затем обретением работы – уже в звуковом кино?
Такая проблема возникает, как только на горизонте угрожающе замаячит новая технология, не правда ли? Предполагалось, что из-за компьютера миллионы людей лишатся работы. Да? Нет. Все, кто потерял работу, быстро ею обзавелись, причем в более освещенных офисах, в более высоких небоскребах, в более уютных жилищах. Телевидение должно было выбросить на улицу тысячи тысяч сотрудников радио. Да? Нет. Они вновь получили свою работу – на тысячах телестанций, тогда как радиостанций в те времена было всего несколько сотен.
Все это стало бы пищей для его ума и интеллектуальной жевательной резинкой для пережевывания в сумерках утреннего сеанса.
Возьму на себя смелость заявить, что можно было бы прокрутить первые полчаса «Поющих под дождем», выключить проектор, повернуться к Шоу и спросить:
– А что будет дальше? Как звуковое кино отразится на актерах, на студиях, на всем мире?
– Боже праведный! Посторонитесь! – воскликнул бы Шоу. – Нет, не надо показывать, что будет дальше. Я сам допишу все сцены, диалоги и прочую славную галиматью в вестибюле. Где моя авторучка?
Мы же знаем Шоу: спустя несколько часов он раскусит, разложит по полочкам и распишет каждый шаг Джина Келли и хора под непрерывно льющим дождем.