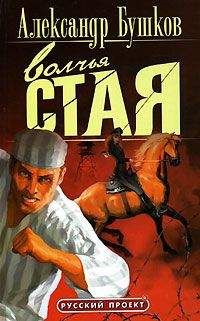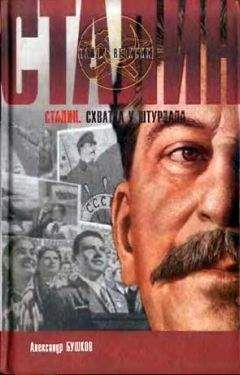перья, им только попадись!), Данка приделает наконечники и оперение. Ну, а тетиву каждый будет прилаживать сам...
После вдумчивого разговора о состязаниях возникла некоторая заминка, и Тарик, видя, что разговор застрял, как тяжело груженная габара в глубокой грязи, сказал, как заранее собирался:
— Ну что, теперь поговорим о Серой Крепости?
Глава 10 СЕРАЯ КРЕПОСТЬ КАК ОНА ЕСТЬ Никак нельзя сказать, что его слова оказались
ошеломительной неожиданностью, разговор о Серой Крепости заходил и прежде — последний раз совсем недавно, три дня тому, — но все разговоры были этакими отвлеченными рассуждениями: мол, хорошо бы, да как-нибудь надо обсудить серьезно, да решаться пора... А теперь Тарик решил, что настала пора от слов перейти к делу.
Хорошо еще, что не увидел ни на одном лице испуга — но вот удивление читалось на всех... Тарик усмехнулся:
— Ага, вот именно. Болтали-болтали, переливали из пустого в порожнее, ловили радугу шапкой, как тот деревенский дурачок из притчи, мечтательно глазки закатывали: как бы утворить что- то лихое и отчаянное, чего ни одна ватажка не делала... Что, так и останется пустыми мечтаниями? Что бы мы ни утворили, другие ватажки давным-давно проделывали, разве что не на нашей улице. А вот если мы сходим в Серую Крепость, будем первыми.
— И никто об этом знать не будет, — сказал Чампи не перечаще, а по своей всегдашней привычке уточнять и добавлять. — Никому ж об этом не сможем и словечком пискнуть. Если родители узнают, что мы в Серую Крепость ходили, три шкуры спустят. Даже те, кто в наказаниях умеренны. Скажешь, нет?
— Ну отчего же, — сказал Тарик. — Все верно говоришь. Уж на что мой папаня в наказаниях умерен, а узнай он, что мы ходили в Серую Крепость... Я точно месяц сидеть не смогу, и в Школариуме стоять придется, все хихикать будут...
— И со двора запретят выходить, если не в лавку и не в Школа- риум, — уныло промолвил Шотан. — Со многими случалось, и со мной самим тоже. Спрячут штаны в ларь под замок, а без штанов ты и сам носу на улицу не высунешь, даже в палисадник не выйдешь — запозорят... Да мало ли какое наказание родители придумать могут к тем, что уже в ходу...
— Боишься? — прищурился Тарик. — А раньше озоровать не боялся, хоть пару раз и огребал по самое не могу...
— Раньше точно знали, что за что получишь. А теперь придется гадать, что измыслят родители, если узнают. Ясно только: что-то прежде небывалое по свирепости. Я даже не наказания боюсь, тут другое... Придется, даже если все благополучно кончится, язык держать за зубами, пока в Мастера не выйдем, когда драть нас смогут только по приговору Цеха, да и то за такие вины, каких никто из нас заведомо не учинит...
— Ах, вон оно что... — прищурилась Данка. — Слава мимо проплывет, вот что тебя колышет... Шотан, а как быть с прошлогодней проказой, когда мы с Певучего фонтана грозовой ноченькой шер-шавкой 118 шесть бронзовых воробейчиков отчекрыжили? Год без малого прошел, а мы и словечком никому не намекнули, что это мы. Лежат у нас до сих пор воробейчики, в дальние уголки попрятанные, и никто ничего не знает. И промежду прочим, если бы узнали, кто воробейчиков попятил, всех в строгую Воспиталку определили бы — о чем мы все знали заранее... И единственной наградой для нас было то, что об этом не то что весь квартал — весь город неделю говорил, пока следующая звонкая новость не объявилась. И мы, слушая пересуды, невинные рожицы делали, зато про себя хохотали: это ж мы, мы самые! Давным-давно новых воробейчиков отлили и на фонтан пришпандорили, история эта забываться стала — а мне вот до сих пор как маслом по сердцу подумать: мы это утворили! И пусть никто не знает...
— И про тот герб с дверцы графской кареты тоже никто не знает, кроме нас, вот уже полгода, — добавил Байли. — До сих пор у меня в амбарушке прикопан так, что никто искать не возьмется. Тоже хохочем про себя да вспоминаем на сходах, и всего-то.
— Именно, — поддержал Чампи. — Это про воробейчиков весь город говорил, а про герб и по кварталу не разлетелось. И кучер, и ливрейные лакеи, без присмотра карету у таверны оставившие, о своем позоре не распространялись. Быстренько укатили во дворец, никто и не понял толком ничего, кроме тех, кто рядом оказался и видел, что с дверцы герб выдран. Так сколько их было? Темный вечер стоял, а фонари еще не зажигали — небо было хмурое, темнота упала до «фонарного часа», а раньше времени фонари зажигать не положено. И ни одна живая душа нас не видела.
— Тоже приятно вспомнить, — хихикнула Данка. — Уж точно, и кучер, и лакеи от графа получили выше крыши. Кучер ни при чем, а лакеев не жалко: оба мне грязные слова говорили, когда я из Школариума шла...
— И про то, что это мы на копье монументу конного рыцаря на мосту Доспешников тыкву насадили ранним утречком, тоже никто не знает, — сказал Чампи. — И всего удовольствия было, что мы потом с невинным видом на мост зашли и вместе с ранними зеваками поглазели, как смотрители, на чем свет стоит ругаясь, на монумент лезли тыкву снимать — и плохо получалось у этих старых недотеп...
Тарик приободрился: ясно уже, что все трое, хоть и не поддержали прямо, на его стороне. Он сказал ничуть не задиристо: — И уж конечно, никто из нас не станет болтать по улице, кто на воротах у Хорька поносные слова написал. Достаточно и того, что твердо знаем промеж себя: собирались многие, а решились мы первые, и все последующие будут вторыми... Что с тобой такое, Шотан? Как будто впервые узнал, что добрая половина наших проказ так всем неизвестной и останется. Нам самим по сердцу, и достаточно. А уж пойти в Серую Крепость первыми — это, дружище Ягненок, даже не воробейчиков с фонтана отколупнуть. Это, говоря учеными словами из книжки, свершение...
— А если мы не первые? Если кто-то уже сходил, и не вчера, а давно тому, да помалкивает? Тридцать два года тянется, мог и раньше смелости набраться кто-то лихой да отчаянный...
Положительно, Тарик его сегодня