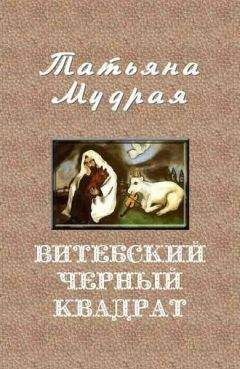Тациана Мудрая
Витебский Черный Квадрат
Ранней весной 2011 года на берегу Западной Двины стояли двое: черноголовый красавец белорус в серой свитке, небрежно запахнутой на талии и туго подпоясанной зеленым кушаком, и миловидная, широколицая и узкоглазая русская девушка в малиновом берете. Поверх кружевного белого платья, на юбку которого она уронила букет осенних цветов, была надета тёмная кофточка с буфами на плечах, туго обтягивающая грудь и талию. Смотрели эти двое на город, находящийся километрах в пятнадцати или даже меньше — за последние десятилетия тот порядком разросся.
Что удивляло в этой паре, помимо старомодных костюмов и внесезонного букета, а также того, что они явно видели недоступное обычному человеку, — их самих можно было узреть только строго анфас. Будто на экране жидкокристаллического монитора. Зайдя сбоку или сзади, посторонний свидетель обнаружил бы лишь мокрый снег, чёрные кривые стволы и набухшую в ожидании паводка реку.
Судя по репликам, которыми обменивались молодые люди, видели они не только через расстояние, но и сквозь время.
— Город в какой по счету раз вырос и похорошел удивительно, Веруня, — говорил юноша.
— Ну да, Сидор, только мне всё чудится поверх него тот прежний — с деревянными и кирпичными домиками, воротами с пристроенной обочь калиткой, шатким забором, буйной крапивой и совершенно неуставными свиньями, — улыбнулась девушка. — И с великолепным храмом.
— Какая скотина распорядилась его снести после второй войны, когда только он один от всего города и остался? — вздохнул тот.
— Уж явно не те простые мужики, что от большой нужды разбирали на дрова нашу усадьбу после первой, — печально ответила Вера.
— Ну, теперь-то Здравнёво сложили заново, как было, — даже с башенкой. Шляхетский маёнтак, — улыбнулся Белорус. — Как ты думаешь, может быть, поэтому мы и смогли здесь появиться, хоть нас давно отсюда увезли?
— Илья Ефимович нас обоих именно здесь сотворил, — ответила Девушка с Букетом. — А человек всегда так или иначе возвращается на родину.
— И всё, что было разрушено, возникает вновь. Встаёт из гари и пепла. Правда ведь?
— Правда.
— Ты помнишь, с чего началась эта история? — говорит Белорус.
— Конечно, — отвечает Вера. — Только рассказать по порядку всё как было — духу не хватает.
— Давай так: я буду говорить о всяких смертях и катастрофах, а ты о любви и рождениях.
— Давай. Только вначале всё это существовало вместе, поэтому начну я.
Вера уронила цветы, протянула обе руки туда, где на месте города наступила бесформенная тьма, и сжала ее с обеих сторон, придав форму чёрного квадрата.
— Погоди. Разве Малевич был здесь?
— Да, только позже. И чем тебе плоха квадратная форма? Символ земли, порождения из хаоса, божественного младенца и начала всех начал. А что холст загрунтован чёрным — что же, ведь и из такого цвета может родиться радуга. Ну, а теперь говори ты.
И Белорус начал.
— Двадцать четвертого июня тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года весь Витебск охватил небывалой силы пожар…
— Я рисую огненный подрамник для квадрата нашего полотна…
— …который погубил не меньше трети города — в основном, на бедняцкой окраине, которая называлась Песковатики. И надо же было, чтобы супруга Захара-Хацкеля Сегала, грузчика бочек с селедкой, лавочница Фейга-Ита, именно в этот злосчастный день надумала разродиться первенцем! Кровать с нею и маленьким Мойшей носили по всем улицам, спасая от огненного вихря и летучих головёшек — оттого, наверное, мальчик потом всегда чувствовал беспокойство перелетной птицы и был очень лёгок на крыло.
— Да, но свой город он всегда носил с собой и во всех скитаниях примерял на все прочие. И Петербург, и сам Париж были для него всего лишь очень разросшимся вариантом Витебска…
— Скитался он много, и время было неласковое. Самые первые воспоминания, от Лиозно, куда мальчика возили к деду-резнику, были совсем жуткими — сарай, где развешаны шкуры убитых животных…
— Зато всё, что происходило с ним, можно было считать чудом. Чудом выжил. Чудом начал рисовать — залпом, взахлёб, сначала срисовывая все подряд картинки из журнала «Нива», потом ловя на карандаш знакомые лица и пейзажи. Чудом нашёл понимание у правоверных родителей: смирного трудяги отца и умной матери. Чудом…
— Чудом оказалось, что в Витебске работал и учил тогда Иегуда, Юдель — или Юрий Пэн, сам ученик нашего создателя, — подхватила девушка. — Много позже он погибнет — страшным и непонятным образом…
— Об этом позже, Сидор, хорошо? Мойша говорил позже, что это Юдель населил Витебск его людьми, наполнил их скудным и величественным бытом. Так густо жили они на полотне, так схвачена и передана художником истинная и горькая соль их бытия. Портной, скрестив ноги, смотрите на зрителя поверх шитья, сапожник в очках читает газету на идише, пожилые супруги за пасхальным столом читают агаду, умирающая старушка в последний раз любуется праздничными свечами… Даже сам юный Сегал в артистически широкой шляпе…
— «В Витебске тогда было много столбов, свиней и заборов, а художественные дарования дремали» — жаловался юный Мойша. Но и в Питере, и в Париже, и — много позже — в Нью-Йорке он будет упорно воссоздавать все те же витебские столбы, заборы, свиней, коз, лужи, скрипача, кучера, шарманщика, раввина… И самую главную свою, самую прекрасную натуру.
— Об этом я сама скажу. Ибо только женщина может по достоинству оценить другую женщину. Летом 1909 года в Витебске художник познакомился с Беллой Розенфельд, дочерью богатого витебского ювелира. Очень образованной и утончённой — по счастью, маленький Витебск тогда уже обзавелся своими Высшими Женскими Курсами… Точнее, Женской Алексеевской Гимназией, из которой выходили будущие петербуржские курсистки.
«…Она молчит, я тоже. Она смотрит — о, ее глаза! — я тоже. Как будто мы давным-давно знакомы и она знает обо мне все: моё детство, мою теперешнюю жизнь и что со мной будет; как будто всегда наблюдала за мной, была где-то рядом, хотя я видел ее в первый раз. И я понял: это моя жена. На бледном лице сияют глаза. Большие, выпуклые, черные! Это мои глаза, моя душа…»
Она была невесома и летуча, поистине как душа и как муза… Часто он так ее и рисовал — безмятежно парящей в небе. И себя рисовал летящим рядом с ней — над заборами, домами, над людьми, над собором — и таким обыкновенным, таким милым и вечным Витебском.
— И вот от этой «своей души», он, будучи женихом…
— Еще одно чудо!
— Уехал на выданную ему стипендию в Париж, учиться художеству и лицезреть всяких Олимпий Мане. Не на три года, как Чацкий, а на все четыре.
— Так ты и Грибоедова знаешь, Сидорко?
— А что такого? Твой почтенный батюшка Илья Ефимыч удивлялся, бывало, как много я помню из Пушкина и Лермонтова. Иду, бывало, по дороге и распеваю во всю глотку…
— Итак, поселился наш скиталец в «Улье» — круглом и низком, как раскормленная двенадцатиугольная башня, общежитии художников, — продолжал он. Там, кстати, перебывало немало его соотечественников. Как и положено всем истинным творцам, бедствовал и голодал. За неимением холстов писал картины то на скатерти, то на простыне, то на своей ночной рубашке…
— И вдохновенно восклицал: «Париж, ты мой Витебск!» — лучшей похвалы Мекке мировой культуры он придумать не мог… Прекрасный и безалаберный Париж, как потом — все прославленные столицы мира, видел наш художник через призму своей уютной провинциальной дыры. Ведь на родине ждала его Белла и оттуда писала ему изящные, утонченные, умные письма, — добавила Вера.
— Вернулся в родной город накануне страшного мирового пожара, в тысяча девятьсот четырнадцатом. Уже как Марк Шагал, гражданин мира, во всеоружии славы. Да что им с Беллой было до славы, до грядущей войны — поженились. На листке бумаги молодожён написал стихи:
«И погасили мы Луну,
И свечек пламя заструилось,
И лишь к тебе моя стремилась
Любовь, избрав тебя одну…»
— А на холстах его появляются — как и раньше, и снова, и снова — летящие в небе Он и Она, которых не может удержать на себе земля.
— Только война съела город, съела все краски Марка: черно-багровым пишет он солдат и войну; на фоне воспаленного неба — почтальона, разносящего в газетах тяжкие новости; с бородой, похожей на куст пламени и на фоне красного дома — одного из своих знакомых. Черно-белым — молящегося о мире раввина.
— Но — о радость! Война кончена. Марку дают возможность пересотворить его домашнюю Вселенную. И город, наполовину разрушенный, преображается — сам Марк его переделывает будто бы к первой годовщине революции, но на самом деле — просто ради великой любви. Красит дома белым, а по белому разбегаются зеленые круги, оранжевые квадраты, синие прямоугольники. Сам себя изображает на зеленом коне… Ярко, странно, ошеломляюще…