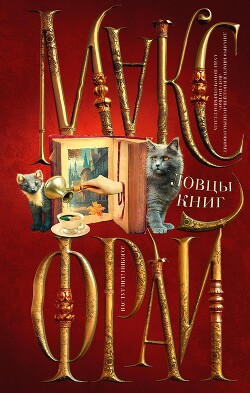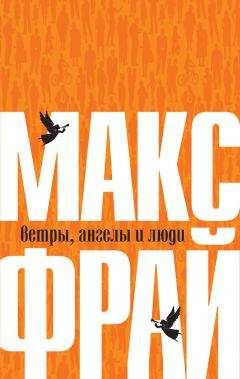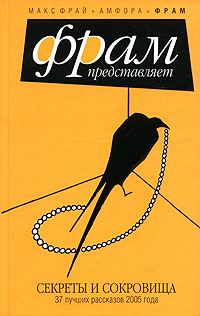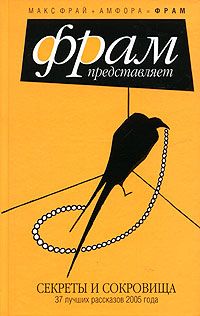– Все правильно понимаешь, – кивает Юрате. – Пока по сути – искусство. Но я не теряю надежды вдохнуть в него настоящую жизнь.
– Не представляю, во что ввязался, – улыбается Лийс. – Но, похоже, это такая удача, какую я прежде не смог бы вообразить.
* * *
Ночью Юрате выходит из дома с картинами. Две сравнительно небольшие, а две – здоровенные, примерно метр на семьдесят (или на шестьдесят). Не особо тяжелые, но нести неудобно. Однако Юрате долго кружит с ними по городу, два с лишним, почти три часа. Потому что… ну, потому что. Ладно, разберется сама.
Юрате сидит у входа в кофейню, здесь на улице с лета остались столы и стулья, видимо, хозяевам их больше негде хранить. Мебель обмотана металлической цепью, такой тяжелой и прочной, словно столы и стулья неоднократно были уличены в нападениях на беззащитных прохожих и организованных грабежах. Но сидеть на столе (в завалившем его сугробе) эти цепи не особо мешают. И ногами болтать.
Юрате сидит на столе, болтает ногами, курит сигару из Тёнси, у нее еще остался запас. Думает: «Хватит маяться дурью, я же знаю, что делать. Но не чувствую, как… Ладно, будем честны. Все я чувствую. Просто это мои картины. Я хочу их оставить. Мне жалко их отдавать».
Юрате спрыгивает со стола, смахивает рукавом остатки снега, ставит на стол картину, ту, где танцуют в парке, аккуратно прислоняет к стене. Думает: «Я сейчас, чего доброго, зарыдаю, как Лийс. Только не от счастья, от жадности. Вот будет номер! Интересно, а слезы у меня чудотворные? По идее, должны бы быть».
Еще час спустя Юрате уже сидит дома. А картины – там, где она их оставила. На обмотанном цепью столе, у входа в обанкротившуюся из-за карантина кондитерскую, на троллейбусной остановке, на дереве, у которого нашлась подходящая развилка в ветвях. Дальше будет, что будет. Судьба сама разберется. Приведет туда кого надо. Ну или не приведет. «Это неважно; то есть важно, но больше от меня не зависит, – напоминает себе Юрате. – Сейчас не мой ход».
Вильнюс, февраль 2021 года
Отто Штрих, он же Труп, Нумирялис, Кадавер, немец, красавчик, отличный чувак, актер-неудачник, безработный экспат и фотограф от бога (уж что-что, а художники у Него всегда получаются хорошо) натянул на нос желтый вязаный шарф, толкнул тяжелую дверь и вошел в зал ожидания железнодорожного вокзала, сейчас совершенно пустой. В дальнем углу, возле выхода к поездам, притаилась кофейня «Баристократ»; собственно, просто высокий прилавок, отгородивший от остального пространства мойку, стеллаж с посудой и кофейный аппарат. За прилавком скучал хозяин, каждый день открывающий эту кофейню ради нескольких постоянных клиентов и зыбкой перспективы заполучить еще пару-тройку случайных – ну мало ли, вдруг повезет.
Труп никогда не был ни кофейным гурманом, ни даже рядовым любителем кофе, дома он пил воду и колу, изредка заваривал чай. Но вильнюсские кофейни натурально завораживали его своим несгибаемым намерением напоить кофе всех, кто рискнет к ним зайти. В одноразовой посуде, на вынос, через порог, в масках, в перчатках, да хоть в скафандрах, лишь бы выстоять против сметающей их крошечный бизнес волны диких абсурдных запретов, общий смысл которых сводился к «немедленно перестаньте жить». Труп за всю предыдущую жизнь столько кофе не выпил, сколько выдул его в карантин, чтобы поддержать владельцев кофеен. Можно сказать, втянулся. Почти его полюбил. Хотя по-прежнему всегда заказывал капучино и пожимал плечами, когда ему предлагали выбрать сорт и степень обжарки – отстаньте, мне все равно.
В этой вокзальной кофейне он бывал очень часто, и хозяин-бариста узнал его издалека. Приветливо взмахнул рукой, Труп в ответ улыбнулся так широко, что с носа сполз шарф.
– Капучино? – спросил бариста.
Труп кивнул:
– Капучино. И еще один… очень хороший. Без молока.
– Есть Эфиопия Шакисо, – оживился бариста. – Мягкий сбалансированный вкус, фруктовая кислинка, белая акация, груша, мускат.
– Круто! – обрадовался Труп, который ни черта не понял про грушу с белой акацией, таких литовских слов он не знал, зато часто видел, как при упоминании Эфиопии любители кофе делают серьезные лица и уважительно закатывают глаза. – Давайте. Черный, много. Большой.
– Американо, – подсказал бариста.
– Американо, – согласился Труп.
Расплатился картой, взял два картонных стакана, аккуратно закрыл их крышками, вышел на пустынный перрон. Американо сунул за пазуху, чтобы подольше оставался горячим. И неторопливо пошел по направлению к привокзальному бару, который так и назывался – «Перрон». Популярное место, Труп и сам еще прошлым летом (теперь казалось – в предыдущем перерождении) там часто с приятелями выпивал. Сейчас бар, естественно, не работал, но под навесом, укрывавшим перрон от мелкого мокрого снега, стояли столы и стулья. И голубое пианино, безнадежно расстроенное, половина клавиш запала, на таком невозможно играть. Но Труп каждый раз, когда сюда приходил, обязательно на нем играл. Пару аккордов, несколько нот, случайный обрывок любой пришедшей на память мелодии. «Если уж на открытой веранде закрытого бара стоит пианино, а я еще что-то помню, значит, надо сыграть, – думал он. – Пусть хоть так, косо-криво, неумело, визгливо, фальшиво, но продолжается наша с ним жизнь».
Вот и сейчас он взял аккорд задубевшими пальцами, вышло черт знает что, похожее не на музыку, а на жалобный вой. Ладно, с учетом контекста – тьма, мокрый снег, заброшенный бар на вокзале в центре холодного безлюдного города – даже и хорошо.
– Так ты еще и пианист? – спросила Наира.
Труп не заметил, когда и откуда она пришла. Так обрадовался и растерялся, как будто они не договорились заранее, а совершенно случайно встретились на веранде закрытого привокзального бара. Словно сама судьба их свела.
Наконец он ответил:
– Нет. Я мало учился. Давно. Скоро перестал.
– Вскоре бросил? – уточнила Наира.
Труп ответил любимой универсальной фразой, которая часто его выручала:
– Что-то вроде того.
И достал из-за пазухи картонный стаканчик с крышкой.
– Ну ничего себе! – воскликнула Наира. – Спасибо! Вот это сюрприз!
– Эфиопия, – гордо сказал Труп. Хотел добавить «Шакисо», но эта часть названия уже вылетела из головы.
Попробовав кофе, Наира удивилась еще больше:
– Какой отличный! И еще горячий. Настоящее чудо! Где ты его взял?
Труп хотел ответить: «Просто я великий волшебник», – и даже мысленно сконструировал фразу, но, как у него это вечно случалось с Наирой, в последний момент смутился, подумал, что шутка какая-то детская, зачем лишний раз выставлять себя дураком. Пришлось сказать скучную правду:
– Здесь на вокзале кофейня. Хорошая. «Баристократ».
– Прямо на вокзале? И даже сейчас работает?
– До семи, – подтвердил Труп. – Каждый день.
– Надо же. Я не знала.
– А никто не знала… не знает. Но я часто здесь хожу. Фотографирую… – он хотел продолжить: «рельсы, пустые перроны, пешеходный мост, фонари, снег и клубящийся пар», – но от волнения забыл, как это все называется, смог сказать только: «фотографирую поезда».
Но Наира видела его фотографии, поэтому поняла.
– Интересно, кто вообще в поездах сейчас ездит? – спросила она. – Города же закрыты. Нельзя никуда.
Труп знал от знакомых, что ездить можно со справками и специальными разрешениями. Если у тебя в другом городе работа, недвижимость или еще какая-нибудь официально одобренная ерунда. Друзья и любимые уважительной причиной не считаются. И радость путешествия не считается. И все остальное, чего так неистово хочет живая пока душа.
Но и без того небогатый словарный запас рядом с Наирой сократился до катастрофического минимума. Поэтому он только развел руками. Дескать, сама видишь, нет вокруг никого. А вслух сказал: